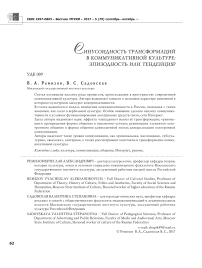Синусоидность трансформаций в коммуникативной культуре: эпизодность или тенденция?
Автор: Ремизов Вячеслав Александрович, Садовская Валентина Степановна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры
Статья в выпуске: 5 (79), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу ряда процессов, происходящих в пространстве современной коммуникативной культуры. Авторы выдвигают концепт о волновом характере изменений в историко-культурном дискурсе коммуникативности. В статье выдвигается модель изменения коммуникативности в России, связанная с таким явлением, как сленг в вербальной культуре. Особое внимание уделено анализу коммуникативности в условиях функционирования электронных средств связи, сети Интернет. Здесь авторы выдвигают идеи: эффекта «западания» волны её трансформации; «ризомации»; превращения формы общения в письменно-устную; реанимации элементов электронного общения в формы общения дописьменной эпохи; деморализации электронной коммуникации. Авторы выделяют такие уровни коммуникации, как криминальная, массовидная, субкультурная, «высокая», элитарная, а также рассматривают константы и трансформанты коммуникативной культуры.
Культура, коммуникация, общение, интернет, ризома
Короткий адрес: https://sciup.org/144160737
IDR: 144160737 | УДК: 009
Текст научной статьи Синусоидность трансформаций в коммуникативной культуре: эпизодность или тенденция?
Странная и загадочная эта госпожа коммуникативная культура. Её историческая походка схожа с синусоидой. Белые брюки и светлые парусиновые тапочки двадцатых годов периода нэпа, как коммуниканты системы «свой» – «другой», сегодня опять появились на стройных ногах юношей; прическа «под бокс» тридцатых годов опять засветилась на головах; платья «в горошек», модные в предвоенные и военные годы, снова в фаворе у молодых дам; наколки «Не забуду мать родную», «Вася», «Коля» – на спинах и руках у тюремной братии послевоенных лет, сегодня воскресли в аляпистых росписях («тату») рук, ног, тел юношей и девушек. Однако особенно ярким примером синусоидной коммуникативной метаморфозы может служить лингвистическая культура. Сленг завсегдатаев 1930–1950-х годов («паханы», «шестерка», «по фене бодаешь») перепорхнул через 1990-e годы в сегодняшний слегка приблатнённый сленг молодых («братва», «брателло», «стрелка», «разборка», «клево», «отходняк» и т.п.), по пути подпитавшись стиляжной вербальной культурой 1960-х годов: «чувак», «чувиха», «оторвемся», «лабаем джаз» и прочее. Подобное особенно характерно для ненормативной лексики.
Можно отметить четыре крупные волны лингвистической трансформации в нашей истории: революцию 1917 года, приведшую «низы» к власти; 1930-е годы, когда чуть ли не вся страна вкусила лагерные и тюремные хлеба; годы Великой Отечественной войны и последовавшее после неё уголовное раздолье вплоть до 1950-х годов и, наконец, постперестроечную волну «новых русских», «братков», «бригад», «поцов», «паханов», «воров в законе», «мафиози» и т.п.
Сегодня этот процесс конституировал криминогенный сленг; «тюремное искусство»; криминогенный имидж (бритоголовые и «качки») и «шансон»; криминальные традиции и обычаи (приветствия, жесты, аксессуары одежды). Всё это стало, к сожалению, реальностью повседневной культуры.
Что можно сказать о причинах её живучести? Бедность и нищета – да!
Социальное неравенство – да! (Мат – функция замещения попираемого достоинства.)
Желание части населения «косить» под «братву» – да!
Ну и осознанное насаждение, куль- тивирование мата, попирающего нравственное поведение, – тоже да!
В этом ракурсе находится и культурный смысл мата – «опущение» личности на уровень, где хам – законодатель, где подлец и фигляр – дирижёры, где выгодна «мутная вода», задавленность и нищета духа.
С известной долей приближения можно утверждать, что современная личность в России (в массе своей) как бы «вышла» из исторического языкового менталитета, «покинула» его. Чревато ли это перерождением языка, а затем и народа, этноса, нации? Ведь язык – ядро культуры, его смыслообразовательная и мыслесозидательная часть. Язык – основа межчеловеческой коммуникации.
Назревает другая опасность. Она связана с тем, что ведущая финансово-промышленная элита России, а за ней и её свита всё больше уходят в другой язык. С одной стороны, в грамматически правильный, литературный – русский. С другой стороны, в английский язык, включая всё больше и больше англоязычных фраз в повседневный речевой оборот, не говоря уже о компьютерном общении. А с языком «живут» и манеры, и психология, и установки, что связано с ментальностью... Не так ли было накануне XX века в России, когда на языке «черни» – на русском – было стыдно говорить среди знати, между собой в аристократических семьях? Все это в конечном счёте привело, как известно, к социокультурному расколу России и дальше – к революционному взрыву массы духовно презираемых и отвергнутых.
Можно резюмировать, что язык сегодня нередко выступает не другом, а чуть ли не недругом. Причем он наносит удар по самим его носителям, ввергая в духовный, душевный раскол, порождая ценностно-ориентационное противоречие в образе жизни, в сфере духовных векторов.
Основным маркером хаоса или порядка в подобной социокультурной ситуации выступает мера (или степень) согласованности между элементами системы «язык – культура». Используя физическую типологию процедур теории возмущения, можно ввести понятие «перенор-мируемости» по отношению к языковой среде и человеку со стороны культуры (способность ограничивать число «расходимостей»). Так, проповедуемая многими современными писателями, актёрами, режиссёрами допустимость ненормированной лексики (Э. Лимонов, В. Сорокин, В. Пелевин, И. Губерман, А. Германика) оборачивается криминали- зацией сознания общества, что приводит к терпимости по отношению к преступности, к утрате стыда и совестливости в массовом масштабе, а в итоге – к культурному «опущению» и к аморализму. Акцентуализация художественных обобщений на «братках» и «бригадах» оборачивается героизацией преступного мира, бандитов, уголовников. Опоэтизирование проституции («ночные бабочки»), сексуальной вседозволенности влечёт за собой совращение малолетних, порождает феномен матерей-отказниц, генерирует разгул среди молодёжи «свободного» сожительства, вследствие чего получают большое распространение венерические заболевания, бесплодие, женский моральный цинизм и пьянство.
Всё это свидетельствует не только о волнообразном законе функционирования феномена коммуникации, но фиксирует и более глубинные общественные параллели.
Очевидно, что эти коммуникативные процессы, символы-знаки расширяют поле коммуникации людей, вводя их в своеобразную «волновую яму», замедляя выход из неё, или специфицируют его, в зависимости от профессии, образа жизни, социального функционала. Налицо усложнение содержания и формы коммуникации людей в современном обществе, способов её реализации.
Наиболее важная сторона здесь – взаимосвязь социокультурных процессов с образом мыслей, образом жизнедеятельности и межчеловеческого общения.
Сегодня возникли целые системы виртуальных взаимодействий – взаимосвязей людей. На первый взгляд, изменения во многом внешние: новые технологические и технические достижения сделали общение более быстрым и сократили расстояние между пользователями, хотя сущность коммуникации осталась прежней: и онлайн, и офлайн обсуждают и решают одни и те же вопросы. Однако имеется и иное мнение. Кто-то считает, что Интернет с его открытостью, отсутствием барьеров и возможностью остаться анонимным, поменял принципы коммуникативного общения. Есть и те, кто отмечает: технологии меняют нас в той или иной степени, в которой мы сами этого хотим (З. Прилепин). Однако наибольший интерес специалистов вызывает именно изменение языка. По сути, речь идёт о визуализации эмоций: так, в онлайн мы отмечаем это значками, они «расширяют» фиксируемое поле нашего разговора в системе гаджетов. Здесь разработана (в дополнение к алфавиту [?]) уже довольно развитая «азбука». Сегодня мы совокупно посылаем друг другу до 6 млрд смайликов каждый день. А их ближайшие «родственники» – эмодзи – стали культурным и где-то даже политическим феноменом. Вселенский мир эмодзи постоянно расширяется: некоммерческий консорциум “Unicode” ежегодно анонсирует выпуск новых эмодзи. Только недавно, как подсчитала британская газета “Evening Standard”, ими стали: рожица, страдающая от тошноты; женщина, кормящая грудью; ёж; брокколи. Появились эмодзи в хиджабах; обозначения любимой кофейни; футбольной команды и проч.
Интрига, впрочем, не в наборе смайликов и эмодзи, а в том, что они, по сути, стали маркерами перемен, происходящих с людьми в мире новых технико-технологических и сверхскоростных связей. Сегодня, по оценкам экспертов, факти- чески уничтожено понятие «личное пространство» – гаджеты делают человека доступным всюду, и время от времени мы должны подавать коммуникативные сигналы с помощью лайков, репостов и т.д.
Эксперты (В. Эванс) также отмечают, что эмодзи неверно называть языком. Речь идёт, скорее, о праязыке, помогающем так же, как жесты, выражения лица, имитация при общении.
При этом эксперты выявили, какие эмодзи популярны в разных странах: в Англии – подмигивающий лицевой знак; в Германии – знак, означающий «ничего не вижу»; в России – используют романические эмодзи в три раза чаще средних показателей; а во Франции, как можно предположить и без социологов, – сердце, пронзенное стрелой. Характерно, что в США чаще всего используется знак «человеческого черепа» в стилистике праздника Хэллоуина (жестокость? страшилки в подсознании?). Однако в целом наследие старых добрых смайликов, как говорится, живёт и побеждает. Среди посылаемых цифровых картинок, согласно мировой статистике, больше всего счастливых лиц – 44,8%; лиц со «светлой грустью» – 14,3%, сердечек – 12,5%; романтических – 2,4%.
Таким образом, наше общение стало многослойным: и технико-технологичным, и природным; и «гаджетным», и «глаза в глаза». Но здесь обнаруживается «волна» в смене объективности взаимодействия: от актуативного средневекового к «кухонному» (в советское время) и от него к интернетному (в рамках избранной социальной сети – своеобразной «кухни»).
Кроме того, гаджеты, как ни странно, создали условия для развития языка.
Они видоизменяют написания слов (например, хештеги), пренебрегают пунктуацией, но в то же время усложняют его «эмотиконами». Интернет рождает новые жанры, например – лонгриды, комменты. Соцсети дают возможность защищенности, анонимности общения. Однако виртуальное общение, к сожалению, более свободно по отношению к морали, оно позволяет безнаказанно хамить, оскорблять, материться [волна техногенной «криминализации»] (И. Стернин).
Отметим, что формально мы сегодня действительно стали гораздо больше общаться письменно: письменная речь теснит устную. Ну, например, появилась вполне устойчивая этикетная норма: прежде чем позвонить незнакомому человеку, его лучше уведомить письменно – отправить СМС или e-mail. Раньше такое трудно было себе представить. По сути, из-за общения в соцсетях, мессенджерах произошло перераспределение времени, которое мы тратим на устную и на письменную речь.
Однако не менее важно и то, что сама письменная речь изменилась. То, как мы общаемся в Интернете, – новая форма, которую можно условно назвать письменно-устной. С формальной точки зрения она письменная: мы что-то пишем и это читаем, но структурно – это, конечно, устная речь (М. Кронгауз). Пока происходил этот переход, стало очевидно, что традиционная письменная речь, пригодная для хранения и передачи информации, не очень приспособлена для живого общения в Интернете. Ей не хватает интонации, мимики, жестов, что и компенсируется, прежде всего, смайликами, которые к тому же универсальны. Другими словами, более или менее одни и
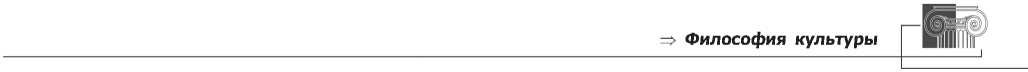
те же наборы смайликов обслуживают разные языки: благодаря им эмоциональную составляющую текста можно понять, даже не понимая его смысла. Смайлики – компенсация сухости письменной речи, когда нет смягчающей интонации, нет взгляда. Кажется, что шутка теряет смысл, если каждый раз ставить улыбающийся смайлик, и всё же он важен, потому что смягчает высказывание.
Пока что совершенно непонятно, что будет с эмодзи. Они соответствуют даже не слову, а какой-то идее, то есть мы в определенном смысле вернулись в дописьменную эпоху.
Если смайлики многое дали для нашей коммуникации, то пока не ясно, что дадут нам эмодзи, кроме украшения текста. Не ясно – этот феномен является свидетельством глобальных изменений или лишь временной игрой? Сложилась уникальная ситуация: форма и технология коммуникативной культуры зависят от разработчиков, предлагающих тот или иной инструментарий.
То есть это управляемый процесс, поэтому трудно предсказать, что придёт в голову разработчикам и куда их занесёт коммерческая выгода. Одно очевидно: впервые на развитие коммуникаций так активно может влиять группа людей и программы, которые они создают.
Таким образом, коммуникативная культура сегодня в значительной мере движется и вперёд, и назад. Вперёд – обновляясь и обретая новые плюсы, сложности, недостатки. Назад – в стилистике, в содержании и структуре. Причём этот процесс явно связан с волновым характером проявления данного процесса, что актуализирует вопросы изучения истории типов коммуникативной культуры, бифуркационных факторов в его трансформациях, транзитивности его составных частей, методов нейтрализации и демпфирования негативных аспектов в современной коммуникативной ойкумене.
Ясно также, что коммуникативность сегодня активно вписывается в контент поп-культуры, в массовидный дискурс, теряя «высокую» метафоричность, литературную, шире – художественную образность. Она размывает рамки «допустимого» и «ненормативного»; в системе Интернета она связана с анонимностью, что «развязывает язык», отдаляет от сдержанности, корректности, самодисциплины. С другой стороны, вслед за множественностью субкультур, функционирует всё возрастающая сумма «языков» специфического общения. Можно сказать, что происходит «ризомизация» коммуникативного поля (говоря терминами постмодернизма). Таких «ризом» можно выделить несколько: криминальная, массовидная, субкультурная, «высокая», элитарная. Другая градация ризом связана с городским и сельским, с этноспецифическим и региональным коммуницированием. Явно и другое – процессы динамики коммуникативной культуры имеют и свои константы, и свои трансформанты. Их ареалы разные. Константы привязаны к деловому полю, трансформанты осваивают сферу непосредственного общения (бытового – преимущественно). Мода является трансформантом коммуникативности. Она, в свою очередь, имеет определённые корни, свои «волны», видоизменяя и коммуникативные активы. И это, как представляется, не эпизодность, а совершенно очевидная тенденциозность.
Список литературы Синусоидность трансформаций в коммуникативной культуре: эпизодность или тенденция?
- Журенков К. Мимика письма // Огонек. 2017. № 39 / 2 октября. С. 4-5.
- Карпухин О. И., Макаревич Э. Ф. Влияние на человека: историко-социологический взгляд. Барнаул: Пикет; Москва, 2000. 510 с.
- Садовская В. С., Ремизов В. А. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва: ВЛАДОС, 2011. 206 с.
- Садовская В. С., Ремизов В. А., Бруккауф 3. Л. Культура научного творчества: о чем не пишут в учебниках. Москва: Наука, 2012. 96 с.