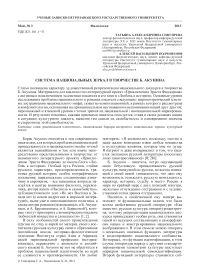Система национальных зеркал в творчестве Б. Акунина
Автор: Снигирева Татьяна Александровна, Подчиненов Алексей Васильевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (132), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена характеру художественной репрезентации национального дискурса в творчестве Б. Акунина. Материалом для анализа стал литературный проект «Приключения Эраста Фандорина» с активным подключением эссеистики писателя и его книги «Любовь к истории». Основные уровни исследования проблемы национального в романах писателя следующие: мировоззренческий (система достраивания национального мифа); сюжетно-композиционный, в рамках которого рассмотрена и конфликтология, основанная на принципиальном неузнавании и непонимании наций друг другом; персонажный и языковой уровни с точки зрения их национальной / инонациональной маркированности. В результате показано, какими приемами писатель пользуется, ставя в своих романах нации в ситуацию культурного диалога, выявляя тем самым их самобытность и одновременно штампы и стереотипы этой самобытности.
Рациональная идентичность, национальные барьеры восприятия, национальные зеркала, культурный диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/14750411
IDR: 14750411 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи Система национальных зеркал в творчестве Б. Акунина
Борис Акунин относится к тем современным писателям, для которых проблемы национальной принадлежности и национального modus vivendi являются важнейшими и так или иначе непосредственно представленными в творчестве: от знаменитого литературного проекта «Приключение Эраста Фандорина» до книги-блога «Любовь к истории». Особый путь России, «тайна русского характера», предопределенность трагизма русской истории, особое географическое положение, парадоксально соединяющее азиатчину и европеизм, – все названные вопросы находятся в центре внимания филолога, переводчика, автора книги «Писатель и самоубийство», публицистического эссе «Но нет Востока и Запада нет (о новом андрогине в мировой литературе)», ныне уже и оппозиционного политика, а также автора романов (подписанных и Б. Акуниным, и А. Брусникиным, и А. Борисовой1), которые «могут примирить с коммерческим письмом любителей изящества и словесности» [1; 2].
В силу особенностей своего происхождения (грузин по отцу и еврей по матери), своего воспитания (русская культура), своего образования (английская школа, историко-филологическое отделение Института стран Азии и Африки), своей первоначальной профессии (историк-японовед, переводчик с японского и английского языков) Б. Акунин не мог не обратиться к проблеме национальной идентичности во всей ее сложности и противоречивости. Он любит
повторять: «Я космополит, поскольку охотно и даже жадно впитываю извне любые новшества и культурные влияния, которые мне по душе. Я патриот и даже империалист в том, что касается экспансии русской литературы (поскольку лицо заинтересованное)» [8; 281].
Б. Акунин – писатель, остро ощущающий свою безусловную принадлежность русской культуре, пишущий по-русски, но всегда помнящий о своей некой «инаковости», что дает ему возможность осмыслять русскую ментальность, характер, историю, судьбу и место России в мире по крайней мере с двух позиций: изнутри, несколько отчужденно-отстраненно и с художественной точки зрения отстраненно.
Писатель в свойственной ему манере выполняет те функциональные задачи, что были всегда свойственны русской литературе: «Как известно, русская культура литературоцентрична; поэтому репрезентации национального дискурса принадлежит особая роль, она становится одной из ведущих составляющих в саморефлек-сии нации и конструировании национального воображаемого. В этом смысле можно говорить о нескольких основных функциях литературы в моделировании национального сообщества. Во-первых, это функция идентификации, в этом случае литература наряду с другими стандартизированными элементами культуры выступает маркером национальной самоидентификации. Второй функцией литературы становится соб- ственно формирование элементов национального воображаемого (в этом случае они могут носить трансляционный характер), а в определенные периоды целостной системы национальной семиосферы» [1; 6].
Б. Акунин ставит в своих романах нации перед лицом друг друга, выявляя их самобытность или штампы и стереотипы этой самобытности. Но в книге «Любовь к истории» он прежде всего ставит Россию перед собственным мировоззренческим зеркалом, в результате чего в жестко-публицистической манере обрисовывает систему «черт русской ментальности по Акунину». Обращая внимание на отсутствие в русском языке у глагола «победить» будущего времени в единственном числе, писатель видит «в этой загадочной прорехе», во-первых, признак национального пессимизма, во-вторых, неверие в силы одного отдельно взятого человека, причем «не кого-то там (“он” или “она” запросто “победит”) и не коллектива (“мы победим”, это без вопросов), а неверие лично в себя» [8; 59]. Б. Акунин склонен отдать первенство в русской душе «карамазовщине», но не «обломовщине»: «С легкой руки Достоевского, который сложил химическую формулу “истинной русскости” из трех главных ингредиентов (Митино “Широк человек”, Иваново “Если Бога нет”, Алешина “Слеза ребенка”) и, во имя объективности, кинул в этот гремучий раствор горстку федоркарамазовской грязи и щепотку смердяковщины, весь мир вот уже 130 лет спорит, какой из карамазовских компонентов нашего нацхарактера самый русский. Разумеется, лидирует Митя с его безудержностью в высоком и низком, хорошем и плохом» [8; 185]. Карамазовская триада «Удаль. Умничество. Духовность», предполагающая «отсутствие чувства меры», по Акунину, «действительно является международно констатированной (и не отрицаемой нами) типообразующей чертой т. н. Русской Души… В отечественной истории этот атрибут национального своеобразия не раз бросал страну из одной крайности в другую: уж коли свобода, то полный хаос, уж если порядок – то автократия или диктатура» [8; 185–186]. С точки зрения писателя, «оборотные стороны отсутствия чувства меры – дубовая упертость и героическая стойкость» [8; 186]. Б. Акунина интересует то, как самоидентифицирует себя русский человек, с непременностью выделяя такие качества, как сердечность, душевность, открытость, простоватость, доброта. Уже в своем романном творчестве он позволяет себе (не без иронии) «разыграть» уверенность русских в своей особой сердечной душевности. Так, в «Коронации, или Последнем из романов» Зюкин, будучи лакеем, сравнивает себя с англичанином Фрейби, находящемся в этой же должности: «…я задумался о том, что английские батлеры, конечно, всем хороши и свое дело знают, но кое- чему у нас, русских служителей, все же могли поучиться. А именно – сердечности. Они просто обслуживают господ, а мы их еще и любим. Как можно служить человеку, если не испытываешь к нему любви? Это уже какая-то механистика получается, будто мы не живые люди, а автоматы. Правда, говорят, что английские дворецкие служат не господину, а дому – подобие кошек, привязываются не столько к человеку, сколько к стенам. Если так, то этакая привязанность не по мне» [5; 24].
Такие качества русских, как вороватость и незаконопослушность, писатель склонен рассматривать «как защитную реакцию русского человека на недружественность государства» [8; 280]. Более того, Акунин не преминет подчеркнуть уникальную странность русских – некую гордость за свои недостатки. Так, будучи в Англии, Зуров с удивлением и гордостью замечает: «У нас бесприютную кобылу в два счета бы увели, а здешний народ квелый, нерасторопный. Не додумались» [5; 50]. Или читаем в другом романе: «Опасное место. Это вам не парижские тайны, а Хитровка. Чикнут ножиком, и поминай как звали» [6; 147]. Парадоксальная мысль о том, что «наше» преступление «человечнее» иноземного, постоянно варьируется в текстах писателя. Например, в повести-триллере «Декоратор», в которой автор делает допуск, альтернативный общепринятой точке зрения: Джек-потрошитель становится под его пером русским по происхождению, есть следующий пассаж о том, что в России «режут, но не так»: «…тут не обычным христианским злодейством пахнет. Во всех этих потрошениях чувствуется дух изуверский, нена-шенский. Православные много свинства творят, но не этак. И не надо нести чушь про лондонского Джека, который якобы был русским и теперь вернулся позабавиться на родных просторах» [3; 250].
Наконец, Б. Акунин сортирует «вехи отечественной истории по одному главному параметру: способствовало то или иное историческое событие прогрессу ЧСД (чувство собственного достоинства) в соотечественниках либо же понизило эту характеристику, которая… явственней всего определяет качество всякого народа» [8; 134]. Причем «имеется в виду качество не отдельных людей, а общества в целом: способность к самоорганизации и самодисциплине, законопослушность, трудовая и бытовая этика» [8; 292]. И в этом смысле для писателя Россия – «троечница, Япония – пятерочница».
У Акунина нет ни одного текста, в котором Россия и русский человек не представали в зеркале чужой национальной оценки, и формулой ее может быть фраза из романа «Нефритовые четки»: «На странице иностранной хроники много писали о России – как обычно, неприятное» [7; 271]. Россия в зеркале всего мира выгля- дит весьма огорчительно для русского человека. Прежде всего, она воспринимается как явная угроза для всех, о чем прямо в минуту предги-бельной откровенности говорит турок Анвар: «Ваша огромная держава сегодня представляет главную опасность для цивилизации. Своими просторами, своим многочисленным, невежественным населением, своей неповоротливой и агрессивной государственной машиной» [2; 94]. Не менее определенен англичанин Реджинальд Милфорд-Стоукс: «Вы знаете, Эмили, как я отношусь к России, этому уродливому наросту, накрывшему половину Европы и треть Азии. Россия норовит распространить свою пародирующую христианство религию и свои варварские обычаи на весь мир, и Альбион – единственная преграда на пути сих новых гуннов» [4; 50]. В романах Акунина постоянно варьируется мысль о том, что Россия воспринимается как страна не только опасная, но и непонятная, отклонившаяся от нормы: «Должно быть, он (Фандорин. – Т. С., А. П.) принадлежит к тому сословию, которое в России называется итальянским словом intel-ligenzia, кажется, подразумевая образованный европейский класс. Согласитесь… что общество, в котором европейский класс выделяется в особую прослойку населения и при этом именуется иностранным словом, вряд ли можно причислить к разряду цивилизованных» [4; 51]; «Я думал, русский сошел с ума, все знают, что русские очень эксцентричны» [4; 244]. Даже особая роль литературы в России может восприниматься как отклонение от нормы: «Хорошая литература, не хуже английской или французской. Но литература – игрушка, в нормальной стране она не может иметь важного значения» [2; 196]. Восприятие «русской угрозы» и «русской непредсказуемости» отчасти разделяется автором, но (вспомним: «Я патриот и даже империалист в том, что касается экспансии русской литературы») для Акунина и его любимого героя особая роль литературы в России коренится в ее географическом, природном, историческом, душевном естестве: «Ездоки санного поезда предавались двум извечным российским удовольствиям – дорожному пению и дорожной беседе. Эрасту Петровичу подумалось: уж не из этого ли корня произрастает вся отечественная словесность, с ее неспешностью, душевными копаниями и беспредельной раскрепощенностью мысли? Где еще мог почувствовать себя свободным житель этой несвободной страны? Лишь в дороге, где ни барина, ни начальника, ни семьи. А расстояния огромны, природа сурова, одиночество беспредельно. Едешь в телеге – сердце щемит, мыслям привольно. Как человеку с человеком не поговорить? <…> Иссякнут темы для разговоров – самое время затянуть песню, и тоже длинную, протяжную, да с немудрящей философией: про черного ворона, про двенадцать разбойников или про догорающую лучину» [7; 484].
Художественный мир Акунина никогда не бывает мононационален. И дело не только в географической широте и свободе его художественного пространства: от Москвы, Петербурга, русского провинциального Заволжска, русского староверческого Севера до Англии, Франции, Японии, Германии, Швейцарии, Болгарии, Америки, Турции, Азербайджана и т. д. Дело в том, что Акунин любит разыгрывать «национальную карту» буквально на всех уровнях текста. И здесь возникает, наряду с авторским мировоззренческим и «цивилизационным» зеркалами, в которых отражена Россия, еще одна система национальных зеркал. Ее создают и в нее «вглядываются» фактически все народы и категорически не узнают себя при полной уверенности в том, что их собственное оценочное зеркало, в котором проступает лицо другой нации, не искажает действительные черты «другого». Причем эта «взаимонеузнаваемость» наций под пером Акунина становится все резче, что вынуждает писателя в своем последнем романе «Черный город» сделать предуведомление «От автора (во избежание недоразумений)», напечатав его на авантитуле: «Я с совершенно одинаковой симпатией отношусь и к азербайджанцам, и к армянам, глубоко уважаю обе эти нации и продолжаю надеяться, что они помирятся» [9; 1].
Б. Акунин – всеми признанный стилист. В аннотациях к изданиям фандоринского проекта обращается внимание на то, что они написаны «чистым филигранным русским языком» [5; 4]. Стилизаторская филигранность текста Акунина безусловна, но «чистота» русского языка всегда оттенена, разбавлена и подчеркнута иноязычием самого разного свойства и характера вплоть до того, что редко кто из героев говорит правильным русским языком. Тексты Акунина буквально переполнены фразами на французском, немецком, японском, турецком, азербайджанском, армянском и требуют специального перевода в сносках. Часто употребляются иностранные слова, «вкрапленные» в русскую речь и переведенные в самом тексте. В романах писателя звучит «плохой русский», «плохой немецкий», «плохой английский», «плохой французский». Одной из резких черт Фандорина (наряду с ранней сединой при молодом лице) становится заикание. Дворецкий Зюкин, для которого Фандорин так и остался «странным и неприятным господином», делает весьма любопытное заключение по этому поводу: «Я и раньше замечал, что, говоря на иностранных языках, Фандорин совершенно не заикается, но у меня не было времени задуматься над этим удивительным феноменом. Судя по всему, его недуг – а я читал, что заикание является именно психическим недугом, – каким-то образом был связан с изъяснением по-русски.
Уж не сказывалась ли в этом спотыкании на звуках родной речи скрытая враждебность к России и всему русскому?» [5; 386]. Впрочем, Зюкин, решительно отделяющий себя от «этого» народа, столь же мало русский, как и Семья, которой он служит: «Наверное, я вовсе ничего не чувствовал. Очевидно, со мной произошла своего рода paralysie emotionnelle (далее в тексте дается сноска: «Эмоциональный паралич» ( фр ). – Т. С., А. П. ) – не знаю, как сказать по-русски» [5; 431].
Сродни языковой игре игра, воплощенная в поэтике названий. При наличии в творчестве писателя названий, прямо или косвенно указывающих на «русскость» текста («Статский советник», «Особые поручения»), немало и таких, что содержат прямой иноземный («Нефритовые четки», «Коронация») или общекультурный акцент («Азазель», «Смерть Ахиллеса») или прямо вводят инонациональный сигнал – «Турецкий гамбит». В сборнике новелл «Нефритовые четки» принцип национального смешения особо очевиден, поскольку уже в самих названиях репрезентировано несколько культур. «Сигумо», «Table-talk 1882 года», «Чаепитие в Бристоле» – прямая национальная маркировка; «Долина мечты» (американская мечта) и «Перед концом света» (русская эсхатология) – косвенная. «Скар-пея Баскаковых» – узнаваемость классической «Собаки Баскервилей», перенесенной на русскую почву. «Узница башни, или Краткий, но прекрасный путь трех мудрых» – указание и на «Узника замка Иф», и на бесконечные легенды, в том числе русские, о прекрасной узнице, и на мудрые притчи Востока.
Б. Акунин любит смешивать два традиционных сюжета: «приключения иностранцев в России» и «русский за границей». Зачастую героям его романов нужно выбрать и разоблачить один из двух заговоров: нигилистический (= революционный) или международный. Предпочтение чаще отдается второму, поскольку он является более всего национально маркированным. Типично русского героя в общепринятом смысле у Акунина почти нет. «Типично русский», с точки зрения писателя, тот, кто соединил в себе несколько кровей и обладает той способностью, которую Достоевский определил как «всемирная отзывчивость». Таков Фандорин, род которого ведется от Фон Дорна. Герой, как и его создатель, уже в четвертом романе литературного проекта («Смерть Ахиллеса») становится япономаном, что, впрочем, не исключает улыбки автора, в какой-то степени оборачивающейся и самоиронией. Так, начав расследование загадочной гибели Белого генерала, Фандорин пытается сконцентрироваться согласно воспринятой им в Японии системе. В описании этого непростого процесса есть деталь, которая переводит ситуацию в иронический модуль: «Взгляд коллежского асессора был устремлен на собственный живот, если точнее – на нижнюю пуговицу вицмундира. Где-то там, под золотым двуглавым орлом, располагалась магическая точка тандэн, источник и центр духовной энергии» [6; 24]. Один из постоянных оборотов речи Фандорина связан с отсылкой отнюдь не к православным основам этики: «Как сказал Конфуций, благородный муж должен сам нести ответственность за свои ошибки» [6; 235]; «Хороши государственные интересы, если честного работника сначала превращают в бессмысленный винтик, а потом и вовсе собираются уничтожить. Читайте Конфуция, господа блюстители престола. Там сказано: благородный муж не может быть ничьим орудием» [6; 424]. Но Акунин не преминет вернуть своего героя к русской ментальности и русским бесшабашным поступкам (хотя, на первый взгляд, это противоречит логично-рассудочному характеру Фандорина): «В голове мелькнула истинно российская, абсолютно неконфуцианская максима “эх, была не была!”, и Фандорин бесстрашно ринулся навстречу самому рискованному приключению всей своей жизни» [7; 445].
Национальные кросс-образы, являющиеся, как правило, героями положительными, противостоят всегда отрицательным героям-космополитам, преступникам-убийцам. Такова международная авантюристка, убийца Рената Клебер («Левиафан»). Таков профессиональный убийца Ахимас Вельде («Смерть Ахиллеса»). Акунин непременно и в портретной характеристике подчеркнет невозможность хотя бы приблизительно установить национальные корни. Вот, к примеру, описание Ахимаса: «По виду не то британский лорд, не то современный предприниматель – новая космополитическая порода, начавшая задавать тон и в Европе, и в России» [6; 337]. По Акунину, Ахимас становится профессиональным убийцей, поскольку у него было три бога и три языка (смесь голландского с немецким – от отца, чеченский – от матери, русский – от среды, в которой вращался). В результате Ахимас остался без Бога («Бога нет») и без языка («молитвы – глупость»). И в этом Акунин видит причины абсолютного пренебрежения своего героя к чужой жизни.
С точки зрения современного писателя, языковые, визуально-антропологические, физиологические, бытовые барьеры – следствие ина-ковости ментального характера. Барьер чужого, вплоть до чуждого, сознания порождает комический, но чаще трагикомический конфликт, непреодолимый для массового сознания.
Принцип зеркальности построения текста при изображении конфликта национального непонимания и как следствие – неприятия «чужого» становится ведущим. Например, японец Гинтаро Аона глазами француза «папаши Гоша» представлен так: «Вообще же дикарь дикарем. В салоне обмахивается ярким бумажным вее- ром, будто педераст из развеселых притонов на рю Риволи. По палубе разгуливает в деревянных шлепанцах, хлопчатом халате и вовсе без панталонов. Гюстав Гош, конечно, за свободу, равенство и братство, но все-таки не следовало такую макаку в первый класс садить» [4; 25]. А в восприятии японца «типичной» англичанкой вообще недвусмысленно ощутим привкус расизма: «Вот он, подлинный лик улыбчивого азиата. Человек с таким застывшим, безжалостным лицом способен на что угодно. Все-таки представители желтой расы не такие, как мы, – и дело вовсе не в разрезе глаз. Внешне очень похожи на людей, но они совсем другой породы. Ведь волки тоже похожи на собак, но естество у них иное. Конечно, у желтокожих есть своя нравственная основа, но она до такой степени чужда христианству, что нормальному человеку постичь ее невозможно. Лучше бы уж они не носили европейского платья и не умели обращаться со столовыми приборами – это создает опасную иллюзию цивилизованности, а на самом деле под прилизанным черным пробором и гладким желтым лбом творится такое, что нам и вообразить трудно» [4; 137].
Но не менее остра, открыто физиологична модель восприятия японцем европейцев: «Семь лет жизни среди рыжеволосых варваров так и не приучили меня к некоторым их отвратительным привычкам. Когда я вижу, как утонченная Клебер-сан режет ножом кровавый бифштекс и потом облизывает розовым язычком покрасневшие губы, меня начинает тошнить. А эти английские умывальники, в которых нужно затыкать слив пробкой и мыть лицо в загрязненной воде! А кошмарная, выдуманная извращенным умом одежда! <…> Мои чуткие ноздри очень страдают от запаха европейского пота – острого, масляно-мясного. Ужасна также привычка круглоглазых сморкаться в носовые платки, класть их вместе с соплями обратно в карман, снова доставать и снова сморкаться!» [4; 110–111].
Роман «Левиафан», цитаты из которого приведены, занимает в фандоринском проекте жанровую ячейку «герметичный детектив» и фактически становится писательским экспериментом, который связан с проблемой национальной и инонациональной идентификации. Система зеркал в закрытом пространстве расставлена весьма жестко: на одном полюсе – русский, на другом – японец. Французы, англичане и сын раджи и французской танцовщицы оказываются внутри русско-японского экрана.
Помещая героев «Левиафана» в салон «Виндзор», Б. Акунин сразу же начинает играть с национальной атрибутикой, поскольку Виндзор («Бархат здесь был золотисто-коричневого оттенка, а на льняных салфетках красовался виндзорский герб» [4; 23]) – резиденция английской королевы, но «Левиафан» – совместный англо- французский проект, посему конфликт «лягушатники – островитяне» становится внешним конфликтом развития интриги и как бы подсвечен откровенно иронической авторской интенцией. Такова сцена спора представителей полиции о том, кем – англичанами или французами – будет казнен преступник (ситуация приобретает особый комизм еще и благодаря тому, что истинные преступники присутствуют при этом споре). Гош считает, что улик «более чем достаточно для того, чтобы любой суд присяжных отправил голубчика на гильотину.
Инспектор Джексон внезапно качнул головой и буркнул:
– To the gallows.
– Нет, на виселицу, – перевел Ренье.
Ах, англичанин, черная душа! Вот пригрел змею на груди!
– Но позвольте, – закипятился Гош. – Следствие вела французская сторона. Так что парень пойдет на гильотину!
– А решающую улику, отсутствие скальпеля, обнаружила британская. Он отправится на виселицу, – перевел лейтенант.
– Главное преступление совершено в Париже! На гильотину!
– Но лорд Литтлбли – британский подданный. Профессор Свитчайлд тоже. На виселицу» [4; 215].
Та же гротескная ситуация возникает при дележе не найденного еще сокровища. Точка зрения англичанина: «Действительно, цивилизация только выиграла бы, если бы такая фантастическая сумма обогатила нашу казну. Ведь Британия – самая передовая и свободная из стран земного шара. Все народы только выиграли бы, если бы стали жить по британскому образцу» [4; 306]. Точка зрения француза: «Вы, англичане, никогда не были европейцами. Интересы Европы вам чужды и непонятны» [4; 306]. Бесплодное препирательство, инициированное ложным патриотизмом, разрешило Фандорину, после того как он сознательно позволил платку-ключу к несметным богатствам улететь в море, иронически завершить спор: «Сколько денег утонуло! Теперь ни Британия, ни Франция не смогут диктовать миру свою волю. Какое несчастье для цивилизации. А ведь это целых полмиллиарда рублей. Хватило бы, чтобы Россия выплатила весь своей внешний д-долг» [4; 307].
Но конфликт взаимного англо-французского неприятия моментально снимается, когда европейское начинает противостоять азиатскому. Б. Акунин доводит ситуацию неприятия другого до гротескного абсурда, когда Гош, предположив, что японец и есть чудовищный убийца, при сочувствии «Виндзора» восклицает: «Я, господа, имею немалый опыт общения с подонками общества. Сгоряча наш бандюга может и младенца в камин бросить, но чтобы вот так, с хо- лодным расчетом, недрогнувшей рукой… Согласитесь, господа, это как-то не по-французски и вообще не по-европейски» [4; 207]. Парадоксальная мысль о том, что «наше» преступление «человечнее», оказывается, характерна не только для русских.
По принципу зеркальности изображения неприятия национально чужого может быть выстроена целая сцена, и тогда абсурдность и непреодолимость барьеров восприятия «другого» становится особо очевидной. Такова сцена дуэли в романе «Смерть Ахиллеса», в которой Маса выступает в роли секунданта Фандорина: «Появление секунданта оскорбленной стороны произвело изрядный эффект. Ради поединка, до которых Маса был большой охотник, он вырядился в парадное кимоно с высокими накрахмаленными плечами, надел белые носки и перепоясался своим лучшим поясом с узорами в виде ростков бамбука.
– Это еще что за макака! – невежливо изумился Эрдели, – впрочем, плевать. К делу!
– Опять на пистолетах? – разочарованно спросил Маса. – Что за варварский обычай. И кого же вы убьете? Того волосатого человека? До чего же он похож на обезьяну» [6; 42].
Б. Акунин не устает под разной оптикой показывать ярмарку национального тщеславия, но убежден в том, что интеллектуальность и аналитизм могут снять комплекс инонационального неприятия. Если вспомнить классификацию трех типов мироотношения М. Вебера2, то Фандорину свойственны все три типа человеческой деятельности по отношению к миру. Приспособление к миру – это способность героя понимать «другого»; бегство от мира – это его постоянные и чаще всего внешне вынужденные и внутренне необходимые отъезды из России; овладение миром – это владение ситуацией и обстоятельствами. Фандорин нередко использует психологически самый простой путь: приспособить «чужого», поглотить его по формуле «он, как мы» или, точнее, «он – почти как мы»: «Русский дипломат – человек глубокого, почти японского ума. Фандорин-сан обладает неевропейской способностью видеть явление во всей его полноте, не увязая в мелких деталях и технических подробностях. Европейцы – непревзойденные эксперты во всем, что касается умения, они превосходно знают как. Мы же, азиаты, обладаем мудростью, ибо понимаем, зачем» [4; 122].
Другой путь – не приспособить, но понять другого, именно тогда начинает работать формула «он, как я». Название книги «Нефритовые четки», объединяющее десять новелл, чрезвычайно полисемантично: от бытового контекста (любимые четки Фандорина) до национальноисторического (каждая четка – народ со своим укладом и этническими традициями и заблуждениями) и философского (только собранные в одну нить, они символизируют гармоническую целостность мира, которую может постичь и чувство, и ясная просветленная мысль). Фандорин, обладатель четок, приходит к знанию о том, что только собранные вместе, но, оставаясь сами по себе, нации могут сохранить цивилизованный статус человечества. Именно поэтому любимый герой Б. Акунина из российского сыщика становится человеком мира, который способен навести порядок, восстановить справедливость, разоблачить преступника и в Йокогаме, и в Рио-де-Жанейро, и в Москве, в том числе в одном из центров преступного мира – Сухаревке, и в Бристоле, и в американском салуне, и в староверческом скиту, и в английском замке, и в русской дворянской усадьбе.
SYSTEM OF NATIONAL MIRRORS IN WORKS BY BORIS AKUNIN
Список литературы Система национальных зеркал в творчестве Б. Акунина
- Акунин Б. Азазель. М.; Назрань: Захаров: АСТ, 2000. 237 с.
- Акунин Б. Турецкий гамбит. М.: Захаров, 2000. 222 с.
- Акунин Б. Декоратор//Акунин Б. Особые поручения. М.: Захаров, 2005. C. 157-350.
- Акунин Б. Левиафан. М.: Захаров, 2005. 319 с.
- Акунин Б. Коронация, или Последний из романов. М.: Захаров, 2006. 447 с.
- Акунин Б. Смерть Ахиллеса. М.: Захаров, 2007. 428 с.
- Акунин Б. Нефритовые четки. М.: Захаров, 2009. 703 с.
- Акунин Б. Любовь к истории. М.: ОЛМА МЕДИА Групп, 2012. 304 с.
- Акунин Б. Черный город. М.: Захаров, 2012. 368 с.
- Бреева Т. Н. Национальный миф в русском историософском романе рубежа XX-XXI веков. Казань: Казанский гос. ун-т, 2010. 272 с.
- Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. 704 с.
- Черняк М. А. Акунин: перезагрузка образца 2012 года (к вопросу о ревизии ценностей)//Культтовары XXI века: ревизия ценностей (масскультура и ее потребители). Екатеринбург: Изд. дом «Ажур», 2012. С. 84-96.