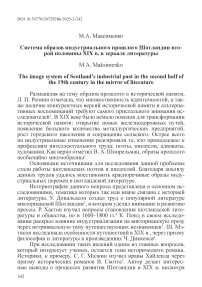Система образов индустриального прошлого Шотландии второй половины XIX в. в зеркале литературы
Автор: Максименко М.А.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Исторический дискурс
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
Впервые в отечественной историографии рассматривается проблема отражения индустриальных представлений в зеркале литературы. В статье представлены результаты сравнительного анализа литературных источников писателей второй половины XIX в., затрагивавших темы промышленного прогресса и урбанизации. Особое внимание в статье уделено работам известных шотландских писателей А. Смита, Дж. Уилсона, Р. Стивенсона, а также работе Ж. Верна и его впечатлениям о посещении Шотландии. В статье уделяется внимание выявлению системы индустриальных образов, характерных для представителей литературной профессии второй половины XIX в. Разбор малоизвестных публикаций позволил определить их противоречивость и неоднозначность. Особое внимание уделяется таким категориям, как город и деревня, природа и урбанизм, старое и новое, а также социальному конфликту как неизбежному результату технологических преобразований. Автор приходит к выводу, что главной особенностью системы образов об индустриализации является их противоречивость. Идентичность социокультурного контекста исследуемых работ позволила определить, что авторы обращают внимание на формирование новой городской социальной структуры, выделяя представителей низшего, рабочего, среднего и высшего классов. Учитывая исторический контекст, автор делает вывод о том, что постоянное обучение новым достижениям науки сочеталось со страхом неизвестности и даже опасности, идущей от технологических достижений.
Индустриализация, история Шотландии, история идей, интеллектуальная история, историческая память, Александр Смит, Джон Уилсон, Вальтер Скотт, Роберт Льюис Стивенсон, Чарльз Диккенс
Короткий адрес: https://sciup.org/149149225
IDR: 149149225 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-342
Текст научной статьи Система образов индустриального прошлого Шотландии второй половины XIX в. в зеркале литературы
The image system of Scotland’s industrial past in the second half of the 19th century in the mirror of literature
Размышляя на тему образов прошлого в исторической памяти, Л. П. Репина отмечала, что множественность идентичностей, а также наличие конкурентных версий исторической памяти и альтернативных воспоминаний требуют самого пристального внимания ис-следователей1. В XIX веке было немало поводов для трансформации исторической памяти: открытие новых железнодорожных путей, появление большого количества металлургических предприятий, рост городского населения и сокращение сельского. Острее всего на индустриальные изменения реагировали те, кто принадлежал к профессиям интеллектуального труда: поэты, писатели, адвокаты, художники. Как верно отметил В. А. Шнирельман, образы прошлого необычайно многообразны2.
Основными источниками для исследования данной проблемы стали работы шотландских поэтов и писателей. Благодаря анализу данных трудов удалось восстановить красноречивые образы индустриальных перемен в шотландской литературе.
Историография данного вопроса представлена в основном исследованиями, тематика которых так или иначе связана с историей литературы. У. Дональдсон создал труд о популярной литературе викторианской Шотландии3, в котором уделил внимание и развитию прессы. Р. Хастон изучал вопросы становления шотландской литературы и общества, но в 1600–1800 гг.4 К. Понд в своем исследовании раскрыл влияние индустриализации на викторианскую прозу через нетривиальную тему путешествующих незнакомцев5. Ш. Мэтисон исследовала особенности путешествий в XIX в., через призму философии и литературы в произведениях Ч. Диккенса6.
При исследовании таких явлений одним из главных вопросов, который интересует ученых, остается тема исторического романа. Историки, к примеру, С. Г. Малкин изучил нравы Хайленда через призму исторических романов В. Скотта7. Автор делает интересные выводы о процессах развития Шотландии в XIX в. несмотря 342
на то, что хронологическими границами его исследования являются XVII–XVIII вв.8. С другой стороны, в центре внимания современной историографии находятся вопросы, связанные с образом Российской империи, или же представлениями о Востоке по материалам прессы шотландских изданий, в частности, «Эдинбург ревью»9. Таким образом, тема изучения представлений и образов в период индустриальных изменений остается все еще актуальным. В целом, большинство работ, связанных с исследованием восприятия жизни в Шотландии через изучение источников личного происхождения, или художественных произведений относятся к периоду, предшествующему индустриальной революции.
Несмотря на существующие разногласия по вопросу хронологических рамок начала и конца индустриальной революции в Шотландии, неоспоримым остаются факты, характеризующие высокий темп роста промышленности, населения и экономики страны в целом. Верно подмечают авторы монографии О. и С. Чекланд, что такое стремительное развитие страны одновременно разрушало и обновляло старый образ жизни, а также способствовало сближению экономики Шотландии с могущественной экономикой Англии, а также формированию общей национальной идентичности10. Однако, ориентируясь на высокие показатели темпов шотландской промышленности, исследовали зачастую обходят стороной вопрос об образах, чувствах и переживаниях людей прошлого. Другими словами, проблемы истории повседневности или интеллектуальной истории являются необходимым дополнением исследований процесса индустриализации.
Самый знаменитый историк индустриальной революции в Шотландии, К. Уотли в своей монографии о том писал, что Рондо Кемерон и другие утверждали, будто современники не подозревали о том, что они переживают такой катаклизм11. Несмотря на то, что ни Роберт Бернс, ни Вальтер Скотт не комментировали это событие, не следует пренебрегать увлечениями первого и его посещения металлургического завода Керрон и страх последнего перед растущим ропотом рабочего класса12. Исследователи творчества В. Скотта, писали о том, что то, как обходится промышленная революция с рабочим людом, вызывало у него ужас и отвращение13. Однако, прямых подтверждений данному утверждению в источниках немного. В такой переломный для Шотландии период интеллектуалы стремились обращаться к историческому прошлому, что часто связывают с началом «романтизма», сторонники которого пытались объяснить настоящее, используя образы прошлого.
Во второй половине XIX в. обсуждение технологического прогресса и процесса индустриализации приобрело небывалую по- пулярность. Несомненно, данные образы можно охарактеризовать двойственностью: интерес и тяга к познанию нового, сопровождаемая страхом к неизведанному.
Судьба Шотландии тревожила душу и ум поэта Александра Смита, который в самом начале своей карьеры работал с отцом в торговле. Влияние набирающей темпы индустриализация второй половины XIX в. нашло свое отражение в поэме «Глазго». Автор писал о «диком поезде, бросающемся в горы, который визжит, пересекая ручеек...»14. Индустриальная революция представлена в образах неестественного, чужеродного вмешательства, так сильно контрастирующего с природой. В другом романе под названием «Домохозяйство Альфреда Хагарда» автор сравнивает два шотландских города. В одном из них, Хоксхеде, шла непрекращающаяся промышленная деятельность, (где развивалась железная индустрия, кораблестроение, работали хлопковые заводы и др.)15. А вот в городе Грейсли, напротив, развивалась только ткацкая сфера16. Этим сопоставлением автор демонстрирует контраст между успешным, развивающимся и наращивающим мощь во всех сферах индустрии городом Хоксхед и небольшим ткацким городком Грейсли, возможностей у которого было не так много. С другой стороны, автор описывал те качества, которые присущи жителям небольшого ткацкого городка. Автор достаточно схоже описал шотландскую действительность XIX в. В этот период в Шотландии была развита хлопчатобумажная, тяжелая промышленность и др., и многие города специализировались только на одной отрасли (часто в силу географического положения). Места, где свое развитие получило сразу несколько отраслей промышленности, а также работали заводы – часто отличались высокими темпами урбанизации. В этом произведении можно выделить схожую параллель с действительностью – различные темпы индустриализации, наряду с региональной неравномерностью развития промышленных отраслей. Это классический пример утвердившегося образа «старое и новое», где на примере местных показателей развития индустрии укреплялась вера в прогресс, а также пиетет к сохранившим свою самобытность и красоту поселкам.
Роберт Льюис Стивенсон в своем труде «Эдинбург: живописные заметки» опубликованном впервые в 1878 г. стремился передать современное ему состояние города. Хотя нередко автор пользовался историческими описаниями в отношении более значимых, на его взгляд, мест Эдинбурга: «Дворец Холируд остался в стороне от развивающегося Эдинбурга, и теперь он стоит серый и безмолвный в рабочем квартале, среди пивоварен и газовых заводов»17. В основе высказываний автора – антитеза, базирующаяся на исторической фактологии. Для создания контрастных стилистических приемов Л. 344
Стивенсон использует историко-литературный тезаурус, символизм и реализм, характеризующий вторую половину XIX в.
Л. Стивенсон подчеркивал, что когда фонари начинают мерцать вдоль улицы, а в высоких окнах загорается слабый свет – вас охватывает чувство, что это тоже кусочек природы в самом сокровенном смысле; а эта мечта, воплощенная в каменной кладке и живом камне – не кулисы театра, а город в совей повседневной реальности, связанный железной дорогой и телеграфом со всеми столицами Европы и населенный типичными горожанами, которые ведут бухгалтерские книги, посещают церковь и продали свою бессмертную долю газе-те18… Эти горожане, по его мнению, с их кэбами и трамваями, поездами и афишами совершенно не вписываются в общую картину…19 Для Л. Стивенсона достижения индустриализации представляются декоративными элементами среди воспетой им природы. Его, как простого горожанина, интересует в большей степени не то, как изменилась повседневность шотландского города, а то насколько быстро это случилось. При сравнении частей старого и нового города (Эдинбурга) автор пользуется стилистикой, полной элегических, романтических приемов, что только усиливает его пиетет к прошлому. Схожесть труда А. Смита и Р. Стивенсона в том, что концепт «старого» и «нового» имеет историческую базу, хотя у Р. Стивенсона система образов является более широкой, и затрагивает не только индустриальные достижения, но и повседневность, урбанизацию, а также природу.
Романтизм остается если не центральным, то сопутствующим образом произведений Л. Стивенсона: проезжая по улицам черного лабиринта, он отмечает несколько снесенных старых уголков20.
В тоже время автор стремится подчеркнуть динамизм происходящих изменений: туннель к станции Скотленд-стрит, вид поездов, вырывающихся из его темной пасти, с двумя кондукторами на тормозе, мысль о его длине и многочисленных массивных зданиях и открытых проездах наверху, безусловно, произвели огромное впечатление на молодой ум21.
Как человек, заставший индустриальные перемены, Л. Стивенсон выражает беспокойство о будущем облике родных мест. Он отмечал, что мы можем срубить деревья, мы можем зарыть траву под мертвыми камнями мостовой; мы можем проехать по оживленным улицам через все наши спальные кварталы, и мы можем забыть истории и игровые площадки нашего детства; Но у нас есть кое-что, что даже неистовое рвение строителей не в силах полностью уничтожить, пока у нас есть холмы и залив, у нас есть славное наследие, которое мы оставим нашим детям22.
В произведении Ч. Диккенса «Домби и сын» повествуется о влиянии развития железной дороги не только на процесс хаотич- ного разрушения, но, более конкретно, на процессе пространственной реорганизации23. С переходом к капиталистической современности, которую железная дорога здесь олицетворяет, сады Стэггса были полностью воссозданы, чтобы воспроизвести господствующий способ производства24. Ш. Мэтисон подчеркивает, что железная дорога представляет собой и сама участвует в процессе пространственной реструктуризации, характерной для более широких последствий капиталистической современности, вступившей в силу в середине XIX века25.
Если сопоставить работу Ч. Диккенса и Л. Стивенсона, то работа последнего представляет собой целостный исторический нарратив, отличающий его от классически английского произведения Диккенса «Домби и сын»26 широкой структурой интеллектуальных образов, в которую включены культурный контекст, архитектура, природа, повседневность, рабочие отношения, система путей сообщений, а также языковая динамика. Более того, работы шотландских авторов имеют интертекстуальные аллегории, подчеркивающие шотландскую национальную идентичность. Интересны аллюзии автора насчет набирающих популярность профессий строителя и архитектора. В тексте он не раз выражал недовольство слишком плотной застройкой, неправильно расположенным направлением домов.
К примеру, описывая кварталы Ньюингтон и Морнингсайд (шотландские виллы), он подчеркивал, что это не дома (поскольку не соответствуют потребностям человека), это не здания, так как созданы без соблюдения пропорций с соседним зданием, они не принадлежат ни к какому стилю искусства, а являются формой бизнеса, о которой можно сожалеть27. И тут он задает вопрос «Выигрывает ли трудолюбивый жадный строитель больше на уродстве, чем на приличном коттедже такой же площади?».28 Он также обращает внимание на то, что есть смелые и безвкусные здания, «эта опасность угрожает благополучию города»29. «Если бы население Эдинбурга было живым автономным организмом, оно восстало бы, как один человек и совершило бы ужасную ночь поджогов»30.
Для Стивенсона историко-культурный контекст является первостепенным, а прогресс выступает в роли фонового ландшафта, отображающего современные реалии. Интересно, что строители и архитекторы, как представители научно-технологических изменений эпохи, воспринимались автором в негативном свете. Таким образом, система поздневикторианских образов индустриализации состоит из концептов, противопоставляющих старое и новое, город и деревню, природу и урбанизм, повседневность и рабочее время.
Интересно, что для конца XIX в. характерно появление в Шотландии школы кайльряда (что в переводе означает «капустная грядка»). Некоторые исследователи подчеркивали более дилетантский характер данной литературы. Хотя, более объективным кажется мнение, что аудитория школы кайльряда ставила в неудобное положение тех, кто отстаивал высокие культурные стандарты, поскольку впечатляющее число читателей из среднего класса проявляло больший интерес к моральным и консервативным чувствам национальных сказаний31. Важно отметить, что это направление оставалось за пределами всеобщего признания. Данное явление в культуре еще раз подчеркивает контраст между урбанистической и сельской литературой, а также классовые противоречия. Многообразие образов литературных памятников конца XIX в. свидетельствует о создании собственной национальной литературы о шотландской идентичности.
Поэма «Город страшной ночи» Джеймса Томсона была написано около 1870–1873 гг. и наполнена отчаянием, безысходностью, в связи с чем получила прозвище «лауреата пессимизма», а сама поэма признана самым безрадостным произведением английской литературы32. Его труд является классическим поздневикторианским памятником эпохи.
Все в мыслях мрачных и тоскливых снах;
Ключей домашних связка, и зело
Свободно платье - твердое при этом,
Как панцирь с металлическим отсветом;
И ноги, что ступают тяжело33
Прямых впечатлений о технологическом прогрессе в тексте встречается немного, но позиция Дж. Томсона отчетливо видна при анализе его работы: пугающая индустриализация, из-за которой будущее видится мрачным и безысходным.
Помимо шотландских литературных памятников культуры, путешествие Ж. Верна в Шотландию осенью и зимой 1859-1860 гг. позволяет восстановить не только структуру повседневности горожан, но и определить восприятие научно-технического прогресса. Интересно, что данный автобиографичный источник был введен в научный оборот достаточно поздно – в 1989 г.
В своем произведении автор стремился подчеркнуть шотландские контрасты – это и особенности развития города и деревни, Хайленда и Лоуленда, урбанизацию и природу. Больше всего писателя интересовала культурная специфика региона. «Этот рудник принадлежал мистеру С. и наряду с изрядной добычей каменного угля поставлял газ для освещения замка и парка. Аллеи последнего были украшены пилястрами с изящными газовыми фонарями на них. В Англии, как и в Шотландии, не найдется ни одной мало-мальски приличной фермы, которая не освещалась бы благодаря разработке угольных месторождений. В этой такой щедрой земле достаточно просверлить дыру, и тут же забьет неиссякаемый источник тепла и света»34. Казалось бы, текст Жюля Верна имеет субъективные коннотации, поскольку воодушевленность путешествующего новым местом неизбежна. Однако, радость и вдохновение достижениями прогресса сменяется унынием:
«Глазго был точной копией Ливерпуля по характеру и атмосфере. Множество общественных зданий, претендующих на монументальность, почерневшие от туманов и угольной пыли, представляли собой довольно грустное зрелище»35.
Один из центральных образов – противопоставление старого и нового был описан Ж. Верном через приму урбанизма. Он подчеркивал, что в торговой части города туристы увидели действительно очень красивые улицы: банки, общественные здания, музеи, приюты, убежища, больницы, Биржа, библиотека, клубы, залы для собраний и другие постройки встречаются здесь во множестве. Здания изобилуют массивными, часто неудачно расположенными колоннами36. «Порт Глазго отличается большой коммерческой активностью. Огромные пакгаузы протянулись вдоль набережных Клайда, и хранят горы и горы товаров».
Следует отметить, что «образ другого» в работе Ж. Верна раскрывается в большей степени через культурный компонент, подчеркивая местный колорит, языковое разнообразие и национальную идентичность. Автор сравнивает шотландские города с другими центрами мира, подчеркивая их принадлежность к общей системе индустриальной эпохи. Таким образом, создается своего рода система типизации урбанистического и индустриального пространства XIX века.
Таким образом, система образов индустриального прошлого Шотландии второй половины XIX в. представляется неоднозначной. С одной стороны, восприятие выстроено на противопоставлении старого и нового, города (как новой цитадели урбанизации) и древни (как бастиона сохранившейся природы), рабочего времени и досуга, а также на социальном конфликте (выделении беднеющих слоев населения, рабочего класса, среднего и высшего). С другой стороны, объединяющим фактором данной системы образов является общий локус о непонятном и пугающем настоящем. Шотландская литература, по сравнению с английской, изобилует романтическими и элегическими приемами. Это связано с большим вниманием авторов к национальной идентичности.