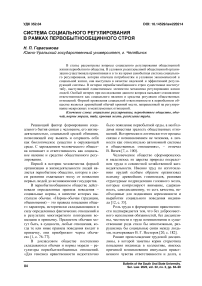Система социального регулирования в рамках первобытнообщинного строя
Автор: Герасимова Нина Павловна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории государства и права, конституционного права
Статья в выпуске: 2 т.22, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы социального регулирования общественной жизни первобытного общества. В условиях родоплеменной общественной организации существовала примитивная и в то же время самобытная система социального регулирования, которая отвечала потребностям и условиям экономической и социальной жизни, она выступала в качестве надежной и эффективной регулирующей системы. В истории первобытнообщинного строя существовал институт табу, выступающий единственным элементом механизма регулирования жизни людей. Особый интерес при исследовании данного вопроса вызывает становление ответственности как социального явления и средства регуляции общественных отношений. Формой проявления социальной ответственности в первобытном обществе является древнейший обычай кровной мести, направленный на регулирование межродовых и межплеменных отношений.
Социальное регулирование, первобытное общество, обычай, нормы морали, табу, кровная месть, разделение труда
Короткий адрес: https://sciup.org/147238128
IDR: 147238128 | УДК: 352.04 | DOI: 10.14529/law220214
Текст научной статьи Система социального регулирования в рамках первобытнообщинного строя
Решающий фактор формирования социального бытия связан с человеком, его жизнедеятельностью, социальной средой обитания, позволяющей ему выжить и сохранить себя как биологическое существо в окружающей среде. С зарождением человеческого общества возникает и ответственность как социальное явление и средство общественного регулирования.
Первой в истории человечества формой организации и жизнедеятельности людей является первобытное общество, которое в своем развитии охватывает эпоху от появления первых людей до возникновения государства.
В первобытнообщинном обществе действовали определенные правила поведения – социальные нормы, в качестве которых выступали обычаи. «Нормы-обычаи (традиции, обыкновения) – это правила поведения общего характера, исторически складывающиеся в силу определенных фактических отношений и в результате многократного повторения вошедшие в привычку. Предметом обычаев могут быть, в сущности, любые отношения, когда те или иные правила поведения входят в привычку, они приобретают черты обычаев» [1, с. 76–77].
В доклассовом обществе постепенно складываются обычаи и нормы морали – регуляторы первобытнообщинных отношений. «Для генезиса нравственности недостаточно было появление первобытной орды, а необходима известная зрелость общественных отношений. Исторически и логически этот процесс связан с возникновением не человека, а личности как относительно автономной системы в общественных отношениях», – отмечал В. Вичев [7, с. 100].
Человеческое общество сформировалось и выделилось из царства природы посредством труда и совместной хозяйственной жизнедеятельности. Именно труд по изготовлению орудий особым образом организовал психику древнейших гоминоидов, развивая структурные подразделения головного мозга, которые контролируют внимание, сдержанность, самодисциплину, то есть качества, необходимые для подавления агрессивности и выработки социального поведения индивида [12, с. 35].
Роль труда в формировании нравственности подтверждается тем, что без добросовестного исполнения обязанностей, без дисциплины, честности в труде возникновение и существование рода стало бы невозможным, разрушились бы социальные связи между людьми, подчеркивает В. Г. Нестеров [20, с. 182].
Раннее происхождение трудовой дисциплины, в которой заметны корни стереотипа поведения индивида в коллективе, явилось причиной возникновения импульсов нравственного чувства ответственности и долга, к такому выводу пришел В. В. Бунак в своих исследованиях [4, с. 543].
В. Ф. Зыбковец к числу первичных стереотипов поведения у неандертальцев относит добросовестный труд, подчинение старшим, охрану детей, дружбу и взаимную привязанность индивидов стада [12, с. 68]. Предписания и запреты служили гарантом эволюции человека и общества. При материнском родовом строе сформировалась нравственная ответственность, которая запрещала вступать в брак внутри рода. Так, табу на инцест показывает, как виновных мужчин публично подвергали жестким мучениям и вешали, а виновных женщин заживо сжигали на кострах. Если нарушенное родство было не очень близким (например, сожительство с двоюродной сестрой), наказание ограничивалось изгнанием из рода [11, с. 60–62]. Изгнание из рода в большинстве случаев заканчивалось смертью.
Сущность табу по мере разложения первобытнообщинного строя привела к формированию «специфических способов регулирования, которые явились промежуточными образованиями между нормами первобытнообщинного строя и правом, пишет С. С. Алексеев [1, с. 18–19].
По мнению А. Ф. Анисимова, система табу регламентировала в той или иной степени почти все стороны жизни первобытного человека, как личной, так и общественной, и представляла особый род санкции за отклонение от идеологии [2, с. 161]. Система табу явилась системой обычаев, и облечена она была в форму религиозного запрета [2, с. 160]. «Табу, по существу, выступало единственным элементом механизма регулирования действия людей» [20, с. 14]. Нормы табу явились древнейшими элементами новой нарождавшейся государственной структуры [5, с. 16]. Сформулированные и закрепленные в табу принципы поведения осознавались первобытным человеком как обязательные правила, нарушение которых влечет за собой тягчайшие последствия [12, с. 89].
В марксистско-ленинской общей теории государства и права обращено внимание на то, что само по себе табу не создает ни обычая, ни морали, но с необыкновенной силой закрепляет обычай, надежно защищает его. Табу служит средством охраны обычая, «благодаря своей природе табу было широко использовано впоследствии, с разложением родового строя и переходом к классовому обще- ству, когда на него была возложена защита частной собственности и социального неравенства» [19, с. 72–73].
Процесс нравственного воспитания индивид получал в период матриархата в родовой общине: послушание, скромность, ответственность были обязательными нормами поведения индивида только среди сородичей и соплеменников, за пределами рода, с чужими имели место подозрительность, злобность, мстительность.
По мнению С. А. Токарева, враждебные межплеменные конфликты имели психологические причины. Опасности, подстерегавшие человека днем и ночью, наполняли его сознание страхом и подозрительностью. В связи с этим любое несчастье, болезнь считались происками злостного и коварного врага [22, с. 83].
Особый интерес при исследовании данного вопроса вызывает становление ответственности как социального явления и средства регуляции общественных отношений. Формой проявления социальной ответственности в первобытном обществе является древнейший обычай кровной мести, возникший для регулирования межродовых и межплеменных отношений. Обычай кровной мести, сложившийся при родовом строе, представляет собой универсальное средство защиты чести, достоинства, имущества рода, состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным. У всех народов мира существовала кровная месть, необходимость которой обусловлена защитой жизни и свободы родового строя. Обязанность мести – это высокий нравственный, а с появлением религии и религиозный долг, забвение которого порождает изгнание из рода. Осуществление мести влекло за собой общий почет [23, с. 172].
Если зло причинялось представителю какого-либо рода и племени, считалось, что зло причинялось всему роду и племени. Например, у арабов месть считалась доблестью, мстителей восхваляли в песнях, а отказ от мести рассматривался как позор; у древних германцев месть была обязанностью наследников убитого: они не могли получить наследство, пока не отомстят за убийство родственника; у евреев – ближайший родственник убитого, который обязан мстить, считался опозоренным до тех пор, пока ему не удавалось отомстить [23, с. 173]; у исландцев убийство оскорбителя считалось необходимым для поддержания достоинства рода, но вражда должна была вестись открыто и иметь известные пределы [8, с. 9].
Договор Руси с Византией 911 года предусматривал кровную месть, но авторы-составители договора сделали шаг в сторону ее смягчения. Закон устанавливал для родственников убитого альтернативу – или отомстить убийце, или потребовать выкуп.
В этой связи существование кровной мести после нескольких тысячелетий постепенно стало ограничиваться, смягчаться и заменяться выкупом. Если на выкуп родственники убитого не соглашались, то убийца мог повторить свое предложение через год; через два года предложение отвергалось, в третий раз через год, если не было достигнуто согласие, убийца лишался надежды выкупить свое преступление [3, с. 67–68]. Между родственниками убитого и убийцей возникало право мести, которое нередко переходило от одного поколения к другому.
Однако по мере развития производительных сил и обмена у всех народов на смену кровной мести постепенно приходит выкуп. П. Лафарг пишет: «Кровь с воцарением частной собственности не требует уже больше крови: она требует себе собственности. Вместо жизни за жизнь… стали требовать домашний скот, железо и золото» [15, с. 122].
Ф. Энгельс, характеризуя первобытнообщинный строй древних индейцев, писал: «Для индейца не существует вопроса, является ли участие в общественных делах, кровная месть или уплата выкупа за нее правом или обязанностью; такой вопрос показался бы ему столь же нелепым, как вопрос является ли еда, сон, охота – правом или обязанностью?» [18, с. 159].
Принадлежность к социальному разряду или слою варварского общества определяет поведение индивида. Все стороны его жизни регламентированы, заранее известно, как он должен поступать в той или иной ситуации, – выбора почти не существует. Любой поступок должен соответствовать строгим предписаниям, вытекающим из сознания принадлежности к группе, из чувства чести, носивший не столько личный, сколько родовой, семейный характер. Обычаем «запрограммирована» жизнь каждого члена коллектива, обязанного следовать образцам – богам, предкам, старшим… Право в варварском обществе не выделено в особую сферу социальной жизни.
Нет такой ее стороны, которая не регулировалась бы обычаем. «Право, обычай – та стихия, в которой пребывает общество, и вместе с тем это неотъемлемое измерение человеческого сознания» [9, с. 145–146].
В рамках первобытнообщинного строя, безусловно, существовал определенный общественный порядок, существовали правила поведения, социальные нормы, при помощи которых регулировались общественные отношения, но таких понятий, как «право» и «обязанность», родовой строй не знал. Правила поведения, или обычаи, создавались обществом, выражали и защищали интересы всех членов рода, и потому они соблюдались в основном добровольно, сознательно, без принуждения. Если же обычные нормы нарушались, к нарушителям общественного порядка применялись меры общественного воздействия.
Французский юрист и профессор права Ф. Жени в содержании обычая выделил два элемента: материальный и психологический. Материальный элемент выражается в обычном правиле, выработанном в ходе длительной и постоянной практики. Психологический – общее психологическое чувство субъектов этой практики, которое заключается в «убеждении (чувстве) членов группы, что они действуют на основе правила, хотя формально и не выраженного, но предписанного им в качестве нормы объективного права» [16, с. 77].
Более того, психологический элемент выражал «нормы-обычаи, которые входят в сферу общественной психологии и через нее непосредственно включаются в индивидуальное сознание» [1, с. 76]. Материальный элемент в обычае обусловлен коллективным характером трудовых процессов, всеобщей заинтересованностью в результатах труда. В наиболее важных сферах производственная деятельность приобретала ритуальный характер. Производительные силы древнего общества делали человека зависимым от природы и заставляли его обожествить природные силы, порождая религиозные взгляды на мироздание. Религиозные представления появились в обществе в тот период, когда в результате развития материального производства люди приобрели элементарную способность к отвлеченному мышлению [16, с. 22].
Важное значение в становлении обычаев заключается в том, что «производство идей, представлений, сознание первоначально не- посредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей...» [18, с. 24].
Совместная трудовая деятельность невозможна без определенной организации, в процессе труда формировались и развивались правила, регулирующие отношения людей к общности. Как отмечает Е. М. Пеньков, эти правила были отражением соответствующих экономических отношений общества, показателем его развития и его потребностей [21, с. 13-16].
В эпоху древнего человеческого рода, который существовал на нашей планете около двух миллионов лет, заслуживает внимания вопрос происхождения нравственности. В родовом обществе у всех народов обычаи и нравственность находились в тесной взаимосвязи, а с возникновением и развитием религии сложились воззрения, согласно которым обычаи считались заветом богов, а их нарушение - проступком против богов. Соблюдение обычаев стало обеспечиваться не только общественной ответственностью, а в дальнейшем и национально-этническим фактором [6, с. 72].
При переходе общества из первобытного состояния к цивилизации претерпевает крупные качественные изменения и система социального регулирования. В результате неолитической революции, перехода от присваивающего к производящему хозяйству, разложения родоплеменной организации происходит развитие всей социальной жизни. В ходе закономерного развития материального производства все стороны социальной жизни получают начала свободы в поведении участников общественных отношений, возникает представление об отдельном индивиде как самостоятельной личности.
А. К. Кравцов подчеркивает, что урегулированность и порядок, как существенный момент способа производства, как форма его упрочения, - это и есть такое качество социального организма, которое объективно требует социального регулирования [13, с. 36]. Регулировать (в социальной жизни) - значит определять поведение людей и их коллективов, давать ему направление функционирования и развития, вводить его в рамки, целенаправленно упорядочивать [10, с. 233, 236].
На поздних стадиях развития первобытного общества, когда происходит распад первобытного строя, система социального регу- лирования, имеющая преимущественно запретительной характер, становится запретительно-дозволительной. В дальнейшем, в условиях цивилизации, развитие дозволений оказывается важнейшим, определяющим процессом в системе социального регулирования, который и придает этой системе черты, характерные для того или иного экономического, социально-политического строя.
Запреты сыграли особую роль в системе социального регулирования. По мере разложения первобытнообщинного строя запреты преобразуются по содержанию, из средства, обеспечивающего сплоченность и единство коллектива, они постепенно превращаются в средство фиксации привилегий, неприкосновенности статуса тех или иных субъектов, их прав, обязанностей и отражаются на мерах ответственности. Запреты, имеющие по своей природе непосредственно-социальный характер, воплощаются в нормах первобытной, затем раннеклассовой морали, в моральнорелигиозных нормах воздействуя на общественную жизнь, отражая сущность отношений собственности, власти, идеологии определенного периода жизни общества. Так, В. Г. Иванов отмечает, что историческая мораль - первый способ социальной регуляции, который направлен на согласование действий индивидов, составляющих некоторую общность [24, с. 63-66].
Социальное регулирование, его существование и развитие, место и функции в общественной жизни имеют ряд закономерностей: исторически конкретное общество требует меры социального регулирования, в которых выражаются объем и интенсивность социально-регулируемых процессов.
По мере развития социального регулирования возрастает психобиологический фактор человеческого поведения, обеспечивая историческую определенность социальной свободы и ответственности в поведении людей, повышая роль общественного сознания. Определяющее значение экономического базиса, материального производства на всех этапах развития общества остается решающим фактором социального регулирования и неизменно присутствует во всех его проявлениях и разновидностях. Целенаправленная деятельность вызывает к жизни особые регулятивные механизмы, которые выражаясь, прежде всего, в социальных нормах, относятся к такому исходному элементу общества, как культура [14, с. 34, 35].
Следует подчеркнуть, что нормы первобытного строя воплощали естественную, природную необходимость социальной жизни того времени и поэтому представляли собой единство требований биологического порядка, производственных, моральных, религиозных, обрядово-ритуальных отношений. Аналогичные процессы социального регулирования, связанные с этико-религиозными (соборными) традициями, общинными началами, некоторыми чертами православия, характерны и для развития права в России.
В заключение отметим: исторический опыт показал, что в первобытных обществах, в условиях родоплеменной общественной организации существовала самобытная система социального регулирования, которая отвечала потребностям и условиям экономической и социальной жизни общества, выступала в качестве эффективной регулирующей системы, обеспечивающей объективно обусловленную организованность социальной жизни.
Список литературы Система социального регулирования в рамках первобытнообщинного строя
- Алексеев, С. С. Проблемы теории права: курс лекций / С. С. Алексеев. - Свердловск, 1972. - 396 с.
- Анисимов, А. Ф. Духовная жизнь первобытного общества / А. Ф. Анисимов. - М., 1966. - 244 с.
- Беляев, И. Д. Лекции по истории русского законодательства / И. Д. Беляев. - М., 1888. - 584 с.
- Бунак, В. В. Речь и происхождение человека / В. В. Бунак. - М., 1966. - 561 с.
- Бутенко, А. П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки / А. П. Бутенко // Государство и право. - 1993. - № 1. -С.12-20.
- Валеев, Д. Ж. Обычное право и начальные этапы его генезиса / Д. Ж. Валеев // Правоведение. - 1974. - № 6. - С. 71-78.
- Вичев, В. Мораль и социальная психика / В. Вичев. - М., 1978. - 357 с.
- Гуревич, А. Я. История и сага / А. Я. Гуревич. - М., 1972. - 202 с.
- Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. - М., 1972. -318 с.
- Дробницкий, О. Г. Понятие морали / О. Г. Дробницкий. - М., 1974. - 386 с.
- Золотарев, А. М. Родовой строй в первобытной мифологии / А. М. Золотарев. - М., 1964. - 328 с.
- Зыбковец, В. Ф. Происхождение нравственности / В. Ф. Зыбковец. - М., 1974 -132 с.
- Кравцов, А. К. Социалистическое производство и гражданское право / A. К. Кравцов // Правоведение. - 1979. - № 2. - С. 35-44.
- Краснов, В. М. К понятию общества / B. М. Краснов // Философские науки. - 1977. - № 2. - С. 28-37.
- Лафарг, П. Экономический детерминизм Карла Маркса / П. Лафарг. - М., 1923. -296 с.
- Луговская, Д. И. Социологическое направление во французской теории права / Д. И. Луговская. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. - 128 с.
- Макаров, А. Д. Историко-философское введение к курсу марксистско-ленинской философии / А. Д. Макаров. - М., 1972. - 458 с.
- Маркс, К. и Энгельс, Ф. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М., 1961. - Т. 21. -746 с.
- Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Исторические типы государства и права / Я. М. Бельсон, В. Е. Гули-ев, М. П. Карев и др. - М., 1971. - 640 с.
- Нестеров, В. Г. Труд и мораль в советском обществе / В. Г. Нестеров. - М., 1969. -189 с.
- Пеньков, Е. М. Социальные нормы -регуляторы поведения личности / Е. М. Пеньков. - М., 1972. - 198 с.
- Токарев, С. А. Ранние формы религии / С. А. Токарев. - М., 1990. - 662 с.
- Хачатуров, Р. Л. Становление права: дис. ... д-ра юрид. наук / Р. Л. Хачатуров. -Тбилиси, 1988. - 365 с.
- Черных, Е. Н. Нормативная система в структуре древних общин / Е. Н. Черных, А. Б. Венгеров. - М., 1984. - С. 63-66.