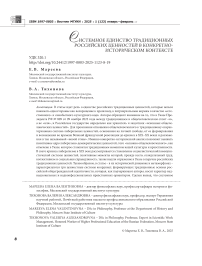Системное единство традиционных российских ценностей в конкретно-историческом контексте
Автор: Тихонова В.А., Мареева Е.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: История философии.Философская антропология.Философия культуры
Статья в выпуске: 1 (123), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье идет речь о единстве российских традиционных ценностей, которые нельзя понимать односторонне как возвращение к прошлому, к патриархальным нормам в качестве «естественного» и самобытного культурного кода. Авторы обращают внимание на то, что в Указе Президента РФ № 809 от 09 ноября 2022 года между традиционным и общечеловеческим стоит «и», а не «или», и Российское государство определено как хранитель и защитник «исконных общечеловеческих ценностей». Для прояснения отношения общечеловеческого к традиционному охарактеризована система либеральных ценностей, основанная на личной свободе, от ее формирования и возвышения во времена Великой французской революции до кризиса в XIX ХХ веках и разложения в так называемой «новой этике». Именно конкретно исторический анализ позволяет выявить позитивное ядро либеральнодемократических ценностей, того «исконно общечеловеческого», как отмечено в Указе, которое становится традиционным моментом нашей культуры и нравственности. В свете кризиса либерализма в XIX веке рассматривается становление социалистической/коммунистической системы ценностей, позитивные моменты которой, прежде всего, созидательный труд, коллективизм и социальная справедливость, также нашли отражение в Указе в перечне российских традиционных ценностей. Таким образом, в статье в их исторической динамике и метаморфозах характеризуются три ценностные системы координат, формирующих традиционные основы российской общегражданской идентичности, которая, как подчеркивают авторы, носит характер наднациональных и надконфессиональных нравственных ориентиров. Сделан вывод, что системное единство российских традиционных ценностей, которое очерчено в Указе, находится в процессе становления. Их конкретный синтез будет определяться реальной социальной практикой и, в том числе, культурной политикой государства.
Единство российских традиционных ценностей, традиционализм, либерализм, социализм, свобода, личность, индивидуализм, равенство, коллективизм, казарменный коммунизм, братство, семья, патриархальность
Короткий адрес: https://sciup.org/144163385
IDR: 144163385 | УДК: 320.1 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-1123-8-19
Текст научной статьи Системное единство традиционных российских ценностей в конкретно-историческом контексте
Сохранение традиционных ценностей в сложившейся культурной и политической ситуации – направление государственной политики России. Соответствующие государственные меры были утверждены Указом Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 года [22], и за истекшие два года здесь сделано многое. Но не об этом важном аспекте Указа пойдет речь в данной статье, а только об одном из пяти его разделов. Это первый раздел Указа «Общие положения», где дано определение традиционных ценностей и приведен их перечень, что на наш взгляд, не завершает обсуждение вопроса о российских традиционных ценностях, а раскрывает для него новые перспективы. В свете «Общих положений» уже понятно, что природа традиционных ценностей не так проста, как думают те, кто отождествляют традиционное с возвращением к «преданьям старины глубокой».
Текст Указа возвращает проблему традиционных ценностей в дискуссионное поле, где существуют не только научные, но и различные идейные позиции. В Указе недвусмысленно очерчен международный контекст противостояния России «деструктивным идеологиям» в свете глобального цивилизационного и ценностного кризиса. Многими за истекшие два года такая постановка вопроса была воспринята в духе поляризации Мы и Они. Но тогда почему мы читаем в Указе о Российском государстве как хранителе и защитнике «традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей»? [22, с. 6] То же касается «продвижения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, основанных на исконных общечеловеческих ценностях» [22, с. 8]. Что в таком случае считать «исконными общечеловеческими ценностями», в отличие от тех либеральных ценностей, которые под названием «общечеловеческих» уже в XIX веке не принимали известные русские философы и которые яростно критикуют сегодня? [10] И главное – почему в Указе между традиционным и общечеловеческим стоит « и », а не « или» ?
Сочетание традиционного и общечеловеческого в данном случае вовсе не парадокс, не круглый квадрат, а позиция, требующая осмысления. И это возможно при конкретноисторическом анализе ценностей, способных стать традиционным элементом культуры.
* * *
Традиция – антипод новации, но только в качестве его самого абстрактного определения. Следующий шаг – признание их взаимозависимости и взаимосвязи, поскольку традиция присутствует в каждом общественном организме, за счет чего его экономика, политическая и духовная жизнь обретают единство и цельность, а способ жизни, основанный на культе новации, не имеет ни сути, ни смысла. Тем не менее, не всякая новация сохраняет свое содержание в жизни сообщества в роли традиции. Одни новации продолжают скреплять взаимоотношения, другие упраздняются или консервируются историей, а третьи вообще не заслуживают обсуждения.
Таким образом, уже на этом уровне рассмотрения следует признать разные представления о традиции как в науке, так и в массовом сознании. Согласимся с Н. П. Рагозиным в том, что нужно иметь в виду три трактовки традиционализма, подступаясь к этой проблеме. Так возможно консервативное отношение к настоящему, а по сути – охранительство в отношении существующей государственной системы и идеологии. Второй вариант связан с возрождением прошлых институтов и ценностей, в которых, напротив, видят спасение от существующих проблем. И, наконец, есть тот, кто не отстаивает нынешние или прошлые порядки, а исходит из синтеза элементов прошлого и настоящего во имя прогресса в будущем. Как раз акцент на необходимости обращаться к прошлому во имя будущего отличает его от прогрессистов всех мастей [16, с. 8].
Но проблема обретает дополнительные смыслы при конкретно-историческом толковании традиционного в свете деления истории человечества на доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную эпохи. Здесь понятие традиционного уже давно ассоциируется со способом трансляции исторического опыта, который присущ до-индустриальному обществу. И это вполне логично, поскольку социальное единство в доиндустриальных сообществах, при всем их многообразии, обеспечивалось институтами сохранения и передачи предписывающих норм, выработанных в прошлом. Применительно к русской истории речь идет об отцовском праве, задающем нормы патриархальной семье, сословной зависимости, и даже самодержавии, поскольку конституционная монархия – это уже результат разложения основ патриархального общества. Традиция здесь невозможна без сакрального отношения к авторитету предков, определившим ее у истоков коллективного бытия.
Уже в таком контексте традиционалистом в собственном смысле будет тот, кто приветствует восстановление форм жизни и ценностей патриархального общества. Но важнее прояснить ту позицию, при которой нет радикального размежевания с историей страны и традиционной культурой, но неприемлема теперешняя идеализация патриархальности без понимания истории ее разложения и преодоления последующими социальными изменениями.
Сторонники возвращения традиционных форм жизни и ценностей на сегодняшний день видят два объекта не столько критики, сколько радикального отрицания. Во-первых, это система либеральных ценностей, которые принято именовать «общечеловеческими». Во-вторых, это коммунистические ценности, которые принято отождествлять с идеалами советского человека.
Трагической для многих «бывших» советских людей стала радикальная смена обозначенных духовных ориентиров, которая, кстати, происходила в обратном указанному порядке. Не успели мы оглянуться, как коммунистическая идеология в 90-х годах ХХ века сменилась агрессивной пропагандой общечеловеческих ценностей. Переход от них к традиционным жизненным ориентирам шел значительно медленнее. Наблюдать при этом, как пришлось не раз, а дважды радикально «переобуваться» профессиональным идеологам, – трагикомическая сторона вопроса.
Сегодняшние проклятия в сторону либеральных ценностей, равно как их отчаянное восхваление в 90-х, лишены историзма. Потому что либерализм либерализму рознь в свете его возвышения во времена Великой французской революции, кризиса в XIX–ХХ веках и разложения либерально-демократической идеологии в так называемой «новой этике» последнего времени.
Либеральные ценности – Свобода, Равенство, Братство (Liberté, Égalité, Fraternité), которые в наши дни являются национальным девизом Франции, – известный лозунг Великой Французской революции. Высшей ценностью здесь является свобода, понятая в качестве свободы индивида как частного лица, утверждающего себя в политическом волеизъявлении, практическом и моральном выборе. И в таком качестве субъект свободы существовал не всегда. В «Идее культуры» В. М. Межуев указывает на роль эпохи Возрождения в становлении европейского человека как свободного субъекта. «Ренессанс, – пишет он, – утвердил право человека на то, чтобы считать себя ни на кого не похожей индивидуальностью, главное достоинство которой заключено в ее творчестве и том мастерстве, с каким оно осуществляется» [14, с. 51].
Но для такого рода индивидуального и социального творчества субъект нуждается в определенных условиях, которые отстаивали и созидали европейские революции XVII–XIX вв. Иначе говоря, то, что именуют универсальными «общечеловеческими» ценностями, совпадает с их конкретноисторическим типом. Свободы и права человека в их либеральном обличье обосновывал, как известно, английский просветитель Д. Локк, который исходил из конкретноисторических представлений об обществе как сообществе горожан, которые в качестве граждан способны свободно действовать, отстаивая свои гражданские свободы. И объясняет он либеральные ценности в качестве общечеловеческих, как было принято в Новое время, самой природой человека. В соответствии с концепцией естественных прав человека, он подчеркивает, что человеку врожде-ны право на жизнь, личную свободу, наследование и владение имуществом [7, с. 374]. При этом в праве на жизнь просматривается отрицание «естественности» рабства, в праве на личную свободу – дискредитация сословной зависимости, а врожденный характер права на имущество делает естественным для каждого участие в рыночных отношениях. Характерно, что защиту жизни, свобод и имущества частного лица Локк именовал «сохранением собственности», связывая с этим главную функцию государства.
Лозунг «Свобода! Равенство! Братство!» впервые прозвучал в речи М. Робеспьера и выражал суть «Декларации прав человека и гражданина», принятой Национальным учредительным собранием 26 августа 1789 года, где индивидуальная свобода сочетается с равенством всех перед законом. Притом, что цель нового правового государства – гарантировать индивидуальные свободы, источником суверенитета, согласно третьему пункту этой Декларации, является нация. Согласно пятому пункту Декларации, закон воспрещает деяния, вредные для общества. В остальном гражданин полагается на себя [4].
Указанная гармония свободы и равенства не была в те времена сугубой формальностью. Ей соответствовала жизнь городов у истоков европейского гражданского общества. Другое дело, идеализация либеральных ценностей и, прежде всего, свободы частной собственности и «невидимой руки рынка» в период либеральных реформ Ельцина-Гайдара в России начала 90-х. Ведь одно дело ситуация в гражданском обществе времен Адама Смита и Давида Рикардо, и другое дело – современная социально-экономическая реальность.
Но уже в начале XIX века свобода и равенство расходятся по разным полюсам, не гарантируя идеала справедливости и братства всех граждан. Свобода частной собственности и экономической инициативы не обеспечивали имущественного равенства, а рыночный механизм не балансировал частные интересы в пользу общего благосостояния, как завещал Адам Смит [17]. Рынок не преодолевал конфликт интересов, а правовое государство не гарантировало равного к ней доступа и равных доходов. Так формировалась новая социальная реальность, где набирали силу социалистические и коммунистические движения, в которых уравнительность так или иначе гарантировала справедливость.
Итак, уже на этом этапе можно сделать вывод о том, что традиционные ценности в Указе Президента РФ № 809 от 09 ноября 2022 г. не следует понимать в духе однобокого традиционализма как возвращения к патриархальным нормам в качестве «естественного» и самобытного культурного кода. В рассматриваемом Указе система традиционных нравственных ориентиров не извлекается из глубины веков, но складывается из универсального духовно-нравственного содержания, сформировавшегося в разные эпохи, в том числе в либерально-демократической системе ценностей, выраженной в «Декларации прав человека и гражданина» во времена Великой французской революции. Именно конкретно-исторический анализ показывает непродуктивность и ограниченность противопоставления традиционных ценностей общечеловеческим, которые при этом отождествляют с вырожденной формой либерализма – индивидуализмом, глобализмом и «новой этикой».
* * *
Именно кризис либеральной системы ценностей уже в XIX веке определил альтернативную ситуацию, из которой либерализм и социализм предложили противоположные выходы: ставка на свободу за счет примирения с неравенством (либерализм) или путь к равенству, поступаясь свободой (социализм).
У истоков осмысления противоречивости самих либеральных ценностей и их практического осуществления был французский аристократ Алексис де Токвиль, автор известной работы «Демократия в Америке» (1840). На фоне достижений американской демократии он отмечает ряд негативных тенденций, о которых тогда же писали наши славянофилы, побывавшие в 30–40 годы XIX века в Европе. Речь идет о меркантилизме и культе материального благополучия, росте отчуждения и сосредоточенности на частной жизни, а также – упадке высокого искусства, совпадающего с разложением вкусов масс. То, что будет описывать уже в зрелых формах Ортега-и-Гассет в «Восстании масс» (1930), почти за сто лет до этого увидел Токвиль в Соединенных Штатах: «Воздух здесь пропитан корыстолюбием, и человеческий мозг, беспрестанно отвлекаемый от удовольствий, связанных со свободной игрой воображения и с умственным трудом, не практикуется ни в чем ином, кроме как в погоне за богатством» [21, с. 337]. «Эффектом Токвиля» называют еще одну особенность в ситуации кризиса либерализма, которую он увидел в Америке. Успехи в борьбе за справедливость, против неравенства не снижает, а обостряет переживание несправедливости. Чем дальше, тем острее переживание нарушения прав, отмечает Токвиль, и это, заметим, обрело превратную форму в США в последние годы.
Как известно, движение MeToo в США связано с историей феминизма Можно вспомнить о движении суфражисток в Англии и США, целью которых было равенство женщин с мужчинами, прежде всего, в области избирательного права, и борьбу за свои права женщин-работниц в рамках социалистического движения. Новая феминистская волна 60–80 годы ХХ века расширила требования женщин. Еще в 1986 году Верховный Суд США постановил, что домогательство в отношении женщины на рабочем месте (sexual harrassment) является актом дискриминации. В мае 2023 года Городской совет Нью-Йорка принял закон, запрещающий дис- криминацию людей по весу и росту в профессиональной деятельности, жилищной сфере и общественных местах. В США идет борьба с эйджизмом как дискриминацией людей по возрасту, куда относятся, прежде всего, пожилые люди. И все это, безусловно, вписывается в логику расширения демократического движения за справедливость.
Но параллельно в XXI веке в США и Европе произошла трансформация борьбы за справедливость. Как отмечает Е. В. Золотухина-Аболина, борьба с несправедливостью посредством «культуры отмены» утратила свое основание, каким «всегда был вопрос о бедных и богатых, имущих и неимущих, о том, что вознаграждение должно соответствовать вкладу, награда – подвигу, а наказание – проступку» [5, с. 126]. Именно борьба за гендерное равноправие, у которой в прошлом была выдающаяся история, в эпоху позднего постмодерна дает парадоксальные результаты. Экологическая повестка, сочетаясь с гендерной, рождает движение «чайлдфри»1. В свою очередь, объединение гендерной и расовой повестки породило движение за умножение секс-меньшинств. Ситуация, в которой гендерный выбор становится из свободного обязательным, – превратная форма либерализма современной эпохи. Что касается результатов такого рода индивидуальной свободы, то именно в области гендерных вопросов они могут оказаться самыми печальными.
Но было бы неверным только «эффектом Токвиля» объяснять противостояние труда и капитала и пролетарские революции XIX– XX веков. Уже в XIX веке мы наблюдаем целый спектр теорий социалистического толка, соответствующих движений и организаций, что выражало осознанное отношение к социалистическим идеям и ценностям в тот период. Как известно, «Коммунистический
-
1 Чайлдфри (от англ. childfree, буквально «свободный от детей») – самоназвание тех, кто сознательно отказался от рождения детей, не имея на то религиозных, медицинских и экономических причин.
манифест» был опубликован Марксом и Энгельсом в 1848 году на немецком языке как новая политическая программа для уже существовавшего «Союза справедливых», созданного немецкими эмигрантами в Париже [12]. Но к 1848 году после гонений его руководство обосновалось в Лондоне, подобно самому Марксу. Важно то, что до принятия в свои ряды Маркса и Энгельса «Союз справедливых» был тайной организацией, под руководством столяра В. Вейтлинга, с явно выраженными уравнительными настроениями, идущими от Гракха Бабëфа.
Во времена Великой французской революции Гракх Бабëф, выражая интересы неимущих, предлагал бороться не только за равноправие, записанное в Декларации прав человека и гражданина, но и за полное имущественное равенство граждан, равенство в потреблении средств к жизни и даже знаний. В «Манифесте плебеев», собранном из материалов газеты «Трибуна народа», Ба-бëф доказывал, что полное равенство – не химера. Зато химерой он называл превосходство таланта, предприимчивости и умственных способностей в распределении материальных благ [1, с. 519]. Пока люди реально не равны и не имеют равного доступа к знаниям и образованию, «нелепо и несправедливо притязать на большее вознаграждение тому, чья работа требует более высокого уровня умственного развития, большего прилежания и напряжения ума» [1, с. 520]. Противоестественно, писал он, когда образование становится «машиной», «оружием», с помощью которого одна часть общества сражается с другой частью, безоружной, обманывает и грабит ее [1, с. 521].
Справедливость, доказывает Бабëф, предполагает бескорыстие. А потому в обществе «совершенного равенства» все произведения мастерства и таланта должны быть общей собственностью и распределяться не по вложенному труду или мастерству, а согласно «повседневным потребностям». Более того, ранее приобретенные знания, а значит образование, должны быть признаны общей собственностью, и тогда их совместное использование сможет сделать людей «почти равными по способностям и даже по талантам» [1, с. 521].
Обычно в бабувизме акцентируют уравнивание людей по талантам, а значит отрицание свободного развития личности. Тема общего владения духовной культурой остается при этом в стороне. Но обратим внимание на то, за что и как критиковал Маркс бабувистов. Значительная часть «Коммунистического манифеста» посвящена размежеванию с предшествующими коммунистическими и социалистическими движениями, в том числе с «грубым и непродуманным коммунизмом». И эта критика ограниченных трактовок равенства была начата Марксом в разделах «Коммунизм» и «Отчужденный труд», которые вошли в «Экономическо-философские рукописи 1844 года», написанные им в Париже [13]. Уже в 40-х годах XIX века Маркс осознавал, на какой социальной почве формировались казарменные версии коммунизма, у которых и в ХХ веке было много последователей. «Опыт ХХ в. показал, – отмечает С. Н. Мареев, – что Маркс был прав уже в «Экономическо-философских рукописях 1844 года»: неразвитая частная собственность рождает неразвитые формы коммунистической идеологии и практики, каким был казарменный и уравнительный коммунизм, отрицающий личность» [8, с. 198].
В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» речь идет об уничтожении труда как отчужденной, лишенной творчества деятельности рабочих в пользу предметного творчества, которое Маркс именует «самоде- ятельностью». В итоге проблема социальных условий, когда умственное развитие достается не каждому и способствует угнетению, выглядит иначе. В условиях отчуждения одностороннее развитие, которое Маркс характеризует как «профессиональный кретинизм», касается как угнетаемых, так и угнетателей. Это определяется характером труда в промышленном обществе, который должна изменить пролетарская революция, а результатом станет не только всеобщее материальное благосостояние, но и «всестороннее развитие каждого как условие всестороннего развития всех» [13].
Спор социалистов и коммунистов до сих пор упирается в роль общественной собственности и насильственных мер при решении указанных задач. Но в обоих случаях в основании системы ценностей оказывается предметно-преобразующая деятельность, труд, в свете чего свобода, равенство и справедливость обретают смысл, отличный от ценностей либерализма. Свободный труд здесь противопоставляется принудительному труду даже там, где это самопринуждение, или самоэксплуатация, когда мы принуждаем себя трудиться ради физического выживания или каких-то благ. Свободный труд в этой системе координат с необходимостью является творчеством, но отличается от современной «креативности» – творческой деятельности, которую в разных ее формах объединяет в качестве цели личный успех. Личностная самореализация в творчестве, чего бы это ни стоило, – смысл жизни «креативного класса» и современная форма индивидуализма.
Для марксиста в труде проявляет себя общественная природа человека. И как раз коллективная созидательная деятельность, а не врожденные качества, – исток развития способностей как основания универсального развития личности. Способности и потребности человека, пишет советский философ-марксист Э. В. Ильенков, «возникают и развиваются только в истории культуры – сначала лишь материальной, а затем и возникшей на ее базе духовной культуры». В генах че- ловека, подчеркивает Ильенков, они «никак не записываются и через гены не наследуются. Индивид усваивает их в ходе своего человеческого становления, т. е. через процесс воспитания, понимаемый в самом широком смысле слова» [6, с. 36].
Социальная справедливость в таком понимании вырастает из коллективизма, равенство – это не столько равные права, сколько солидарность и ответственность перед коллективом в достижении общей цели, значимой для всех. Отсюда советский культ человека труда, лозунги солидарности, взаимодействия и взаимовыручки, что постепенно превращалось во фразу в позднесоветский период.
Сегодняшние проклятья в сторону либерализма и социализма со стороны консерваторов-традиционалистов искренни и понятны. Это ненависть тех, кто уверен в природном или надприродном неравенстве людей, к тем, кто такое равенство защищает. Имеет смысл согласиться с историком М. Б. Смолиным, но только в том, что либерализм и социализм – это не два его врага, а один в свете истории демократии. Во введении в книгу «Тайны русской империи» он пишет о том, что сегодня «русская нация переросла, изжила коммунистический соблазн как разновидность демократического принципа, <.. .> в обществе выработались идейнополитические иммунитеты на эту духовную заразу. Современная же Россия сегодня больна новыми и одновременно старыми западническими либеральными соблазнами, ставшими своеобразным «осложнением» после продолжительного и тяжелого заболевания большевизмом» [18, с. 4].
Смущает, конечно, не только медицинская лексика, но и аналогичная понятийная система, в рамках которой формулируется проблема. За пределами приведенной цитаты Смолин характеризует либерализм то как либеральный вирус, то как бактерию, которую, конечно, превосходит зараза большевизма, а универсальное лекарство от этих демократических болезней – православная вера.
Этот автор из консервативного лагеря по понятным причинам отрицает методологию конкретного историзма в пользу своей политической вирусологии. Хотя именно историзм позволяет видеть диалектическое снятие ценностей либерализма в теориях и практике социалистов, когда свобода, равенство, братство в их раннелиберальном прочтении наполняются новым социальным содержанием. Социализм обладает перспективой развития именно там, где это не пустое в своем радикализме отрицание либерализма, а снятие его достижений. И это при том, что кризис и гибель советского строя в ХХ веке демонстрирует противоречия в воплощении уже социалистической демократии.
Что касается Токвиля, то и у него к середине XIX века прогноз развития либеральной демократии, как уже говорилось, очень пессимистичен: всеобщее избирательное право и включение в политическую жизнь широких масс вполне закономерно ведут к ограничению свобод, усилению роли государства и, более того, к стремлению граждан к опеке. Анализ политической ситуации, породившей режим бонапартизма, Токвиль дал в работе «Воспоминания», которую он не предназначал для печати. Своеобразие режима бонапартизма в том, доказывал Токвиль, что авторитарное правление впервые устанавливается свободной волей граждан. Именно от либеральных свобод отказалось французское крестьянство, передоверив власть вначале Наполеону Бонапарту, а затем его племяннику Луи-Наполеону Бонапарту.
Токвилю ясно, что, бонапартизм – это свидетельство новой исторической ситуации, в которой возможен выбор в пользу равенства в ущерб свободе. Бонапартизм – ограничение парламентаризма и либеральных свобод по воле большинства, поддержанного властью. При этом, будучи либералом, Токвиль винит в рождении бонапартизма приверженцев социального равенства и справедливости. Хотя как раз кризис либеральной демократии с ее кумиром – индивидуальной свободой – с XVIII по XX век создавал почву для уравнительных движений. И, соответственно, кризис либеральной демократии стал причиной трансформации правового государства в государства авторитарного и тоталитарного типа.
Модель единоличного правления, опирающегося на волеизъявление народа, опробованная в бонапартизме, была реализована в ХХ веке не один раз как способ разрешения противоречий и либеральной, и социалистической демократии. В этом свете противоположные оценки советской эпохи в наши дни по-своему объективны. Но здесь как в притче о слепых и слоне. Одни делают акцент на бюрократической машине, превращавшей индивида в винтик индустриального производства, другие – на интернационализме, культе человека труда, развитии образования, науки и культуры, вплоть до культурно-массовой работы для формирования творческих способностей, начиная с самых низов. Другое дело, как одно объективно соединялось с другим, определяя трансформацию социалистических ценностей. Ответ на этот вопрос, конечно, требует отдельного разговора.
* * *
В сборнике русских философов об Освальде Шпенглере С. Л. Франк писал: «То, что переживает в духовном смысле Европа, есть не гибель западной культуры, а глубочайший ее кризис, в котором одни великие силы отмирают, а другие нарождаются» [23, с. 54]. Именно в таких условиях важна задача сохранения и развития «великих сил», а значит – истинных ценностей культуры. Так видел ситуацию не только религиозно мыслящий философ С. Л. Франк, но и А. Н. Герцен, создавший свой проект «русского социализма», объединяющего ценности либерализма и социализма на русской почве во имя прогресса всего человечества [3].
В наши дни тот же пафос просматривается в идеях противопоставления западному миру его же великого прошлого, что, понятно, предполагает отделения истинных ценностей от их превращенных форм. Это значит, что наш протест против индивидуализма, вплоть до принуждения к гендерному выбору, не означает отрицания личной свободы, а протест против казарменного коммунизма, крайние формы которого реализовали в Камбодже «красные кхмеры», не означает отрицания равенства и коллективизма как предпосылки развития личности. То же касается семейных ценностей, когда критика «чайлдфри» не означает противоположного – сведения семейных ценностей к ценностям патриархальным, вплоть до оправдания домашнего насилия.
Именно в таком контексте получает объяснение выражение «исконные общечеловеческие ценности» в Указе Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 г., к которым по сути следует относить все то, что вошло во «Всеобщую декларацию прав и свобод человека», принятую резолюцией Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года [2]. Иначе говоря, мы берем под защиту, а зна- чит вводим в круг традиционных российских ценностей, права и свободы человека, включая свободу вероисповедания и свободу частной собственности. Более того, в ряду традиционных российских нравственных императивов, согласно данному документу, указаны ценности коллективизма, социальной справедливости, взаимопомощи и созидательного труда, что социалисты в свое время противопоставили либералам. И в данном контексте они как будто примиряются, в том числе с идущими из прошлого ценностями крепкой семьи, многодетности, продолжения рода.
То же касается отношения индивида к обществу, что в исконно русской традиции связывали со служением Отечеству, а в более позднее время определялось как «гражданственность». Обратим внимание на своеобразие советского патриотизма, выраженное в «Служу трудовому народу!». Служение Отечеству, гражданственность и патриотизм в данном случае – выражение основы отношения индивида к роду, его «истины» в разные периоды российской истории.
Обратим внимание на то, что православные идеалы, в том числе христианское милосердие, в системе координат, заданной Указом, сочетается со светским гуманизмом, и все это, на наш взгляд, указывает на наднациональный и надконфессиональный характер традиционных российских нравственных ориентиров.
Традиционное ценностное ядро, о котором идет речь, – это не патриархальный монолит, но и не следствие псевдоморфоза западного и восточного начал в духе О. Шпенглера [10]. В тексте Указа дан только перечень традиционных ценностей, которым еще предстоит конкретно сочетаться в качестве предпосылки окончательного оформления общероссийской гражданской идентичности. Конкретный синтез традиционных элементов в новое системное качество и единство – дело будущего. Здесь – как и с «многополярным миром»: каким будет этот синтез, дело практики и грамотной культурной политики.