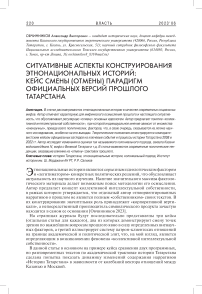Ситуативные аспекты конструирования этнонациональных историй: кейс смены (отмены) парадигм официальных версий прошлого Татарстана
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются этнонациональные истории в качестве современных социальных мифов. Автор отмечает характерную для мифического осмысления прошлого и настоящего ситуативность, что обусловливает регулярную «отмену» основных идеологем. Автор предлагает понятие «коллективной интеллектуальной собственности», при которой индивидуальное мнение зависит от множества «вненаучных», прежде всего политических, факторов, что, в свою очередь, сказывается на логике научного исследования, особенно на его выводах. Теоретические положения иллюстрируются компаративистским кейсом официальных взглядов на ключевые события и процессы истории Татарстана 2008 и 2022 гг. Автор исследует изменения в оценках так называемого колониального подхода, захвата Казани войсками Ивана IV, мифа о Великой Татарии и т.д. В статье выявляются современные политические тенденции, оказавшие влияние на «отмену» трактовок прошлого.
История татарстана, этнонациональные истории, колониальный подход, институт истории им. ш. марджани ан рт, р.р. салихов
Короткий адрес: https://sciup.org/170201754
IDR: 170201754 | DOI: 10.31171/vlast.v31i6.9905
Текст научной статьи Ситуативные аспекты конструирования этнонациональных историй: кейс смены (отмены) парадигм официальных версий прошлого Татарстана
Э тнонациональные истории являются серьезным идеологическим фактором и «легитиматором» конкретных политических решений, что обусловливает актуальность их научного изучения. Наличие значительного массива фактологического материала делает возможным поиск методологии его осмысления. Автор предлагает концепт коллективной интеллектуальной собственности, в рамках которого утверждается, что отдельный автор этноориентированных нарративов о прошлом не является полным «собственником» своих текстов. В их конструировании значительная роль принадлежит «корпоративной вертикали», а непосредственный производитель символического продукта зачастую находится в самом ее основании [Овчинников 2023].
На страницах журнала будут последовательно представлены три кейса (отдельная статья для каждого), два из которых демонстрируют смену точек зрения по важнейшим вопросам прошлого явно в силу определенных вненауч-ных факторов, а третий иллюстрирует систему патрон-клиентских отношений на границе академической и политической элит, что, на мой взгляд, является определяющим в возникновении феномена «коллективной интеллектуальной собственности».
В данной статье в основном на примере кейса сравнения двух программных, но разновременных текстов по академической трактовке истории Татарстана сделана попытка показать динамику изменений содержания нарративов «Истории Татарстана» в зависимости от колебаний вектора отношений между Казанью и Москвой.
Первым источником исследования станет подготовленный в 2008 г. сотрудниками Института истории АН РТ сборник рецензий на федеральные учебники по истории отечества (в заглавии и выходных данных именно со строчной буквы) [Рецензии… 2008]. Время появления документа хотя и относится к эпохе укрепления «вертикали власти», но все же по инерции элементы «оппозиционности» Татарстана к федеральному центру еще прослеживались. Данный факт, как мы увидим ниже, сказался на трактовках важнейших событий истории страны. Второй источник представляет собой расшифровку видеозаписи выступления Р.Р. Салихова1 (нынешний директор Института истории АН РТ) на одной из прошедших в ноябре 2022 г. конференций: «Эпоха изменилась», Татарстан оказался прочно встроен в систему российской государственности, что отразилось на официальном татарстанском «историческом каноне».
Логично начать компаративистский анализ с характеристики более позднего источника, перемежая исследование его содержания с констатацией основных паттернов источника более раннего.
16–17 ноября 2022 г. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) организовало актуальную для российской государственности конференцию «Россия: единство и многообразие»2. Судя по видеозаписи мероприятия, в его ходе прозвучали концептуальные доклады, суть которых сводилась к необходимости укрепления идеологического единства перед лицом внешних и внутренних угроз. Среди выступлений был и доклад директора Института истории им. Ш. Марджани Р.Р. Салихова «Участие народов Поволжья и Приуралья в развитии многонационального Российского государства: проблематика и перспективы исследований»3.
Большая часть монолога Радика Римовича была посвящена так называемым вызовам исторической науке. Большинство этих «вызовов» на поверку оказались мнениями оппонентов татарского национализма, которых Р.Р. Салихов, «просчитав» общефедеральные тренды, путем нехитрых манипуляций подвел под категорию чуть ли не «врагов государства» и «непрофессиональных публицистов». Слушая доклад, легко было заметить беспринципность в отношении прежних взглядов сотрудников Института истории, которые (взгляды) теперь стали для Р.Р. Салихова объектом критики.
Главным вызовом «нашей региональной исторической науке» (цитата дословная. – А.О.) Радик Римович назвал «колониальный подход». Его суть в том, что Россия якобы на протяжении веков не присоединяла новые территории и народы, а «завоевывала» их и препятствовала полноценному развитию (этим мифом сейчас активно пользуются на Западе). Однако долгое время сам Институт истории АН РТ был глашатаем «колониальной сущности» России. В 2008 г. сотрудники института предлагали включить в федеральные учебники истории положения о колонизации как «основном факте русской истории» и «овладении огромной территорией как одной из причин отсталости России». Предлагалось внушать детям, что причины этой «отсталости» заключаются не только в «агрессивной колонизации огромной территории», но еще и в «русском менталитете»1 [Рецензии… 2008: 4, 15].
Казанские историки в общероссийские школьные учебники пытались добавить «вполне очевидный тезис о том, что вся история Российской империи – это череда бесконечных и нередко кровопролитных войн за расширение территории, захват новых земель и сырьевых ресурсов, обрекших государство на экстенсивный путь развития». Присоединение к России прибалтийских, польских, украинских и белорусских земель призывалось характеризовать термином «завоевание». Предлагалось «обогатить» федеральные учебники суждениями о «завоевании» татар и других народов Поволжья, а также о том, что «к XIX в. их земли были очень масштабно колонизированы русскими переселенцами и стали внутренними областями разбухшей империи». Сотрудники Института истории АН РТ желали включения в федеральный учебник дословного текста о том, что («завоеванные» Россией народы. – А.О. ) «были лишены каких-либо возможностей защищать и развивать свою национальную культуру на государственном уровне»2 [Рецензии… 2008: 22, 24].
С 2008 г. по научным меркам прошло немного времени, и директор того же Института истории АН РТ Радик Салихов в 2022 г. публично «отменяет» прежние «истины» и заявляет: «…главный вывод нашей региональной историографии [состоит в том, что] сбережение национальных традиций, сбережение национального и религиозного согласия прочно ассоциируется с сохранением и сбережением основ российской государственности», и «объединяющим фактором многочисленных народов в истории видится укрепление и защита основ российской государственности»3.
Сотрудники Института истории АН РТ в 2008 г. трактовали антиправительственные выступления XVI–XIX вв. как «национально-освободительную борьбу», сомневались в прогрессивности присоединения Украины к России в середине XVI в., вхождение Крыма в состав страны в 1783 г. называли «аннексией»4 [Рецензии… 2008: 61]. О России школьникам предлагалось рассказывать как о милитаристском государстве с имперскими амбициями (например, на полном серьезе авторам федеральных учебников по истории рекомендовалось «отказаться от легенды о начале и причинах русско-французской войны. Русские войска, сосредоточенные вдоль границы несколькими группами для броска во Францию, не успели первыми выступить в поход, а войска Наполеона оказались более мобильными и организованными. В результате военные действия начались на территории России» [Рецензии… 2008: 63, 64] (Загидуллин И.К.). Не случайно, игнорируя принятое название войны 1812 г. как отечественной, автор, видимо, намекает на то, что Российская империя не являлась отечеством для «завоеванных» народов. Теперь же, согласно Р.Р. Салихову, это все не недавнее прошлое его института, а «штампы западной историографии, которая этапы национальной истории народа в составе
России именует колониальными без всяких подтверждений, наши источники свидетельствуют об обратном»1.
Тезисы о колонизации Россией в т.ч. и «татарских» земель, а также о «жестком давлении [на татар] в экономической, социальной, политической и духовной сферах на протяжении XVII–XVIII вв . » присутствуют в подготовленном Институтом истории АН РТ 5-м томе «Истории татар» [История татар 2014: 3] – 7-томнике, который Радик Римович презентировал на конференции. Пятый том вышел в 2014 г., и оказалось, что почти сразу же «устарел». Он просто не угнался за очередными изгибами идеологической политики и быстро меняющимися «правильными точками зрения». Создалась странная ситуация: Р.Р. Салихов критиковал «колониальный подход» и одновременно хвалил и представлял книгу, скомпонованную исходя из того же подхода…
Интересно обратить внимание еще на одну «идеологическую отмену» Института истории АН РТ, зафиксированную при знакомстве с докладом Радика Римовича. Если ранее сотрудники института писали о самостоятельной государственной истории Татарстана, то теперь Р.Р. Салихов скромно говорил о российской «региональной истории», «нашей региональной историографии» (в 1-м томе «Истории татар» однозначно констатировалось, что «“История татар” является относительно самостоятельной дисциплиной, поскольку существующая российская история не может ее заменить или исчерпать» [История татар 2002: 4].
Судя по видеозаписи, на конференции присутствовал заместитель Радика Салихова по научной работе Марат Гибатдинов2. В работах последнего четко прослеживаются зафиксированные выше идеологические колебания. В монографии 2003 г. М. Гибатдинов писал, что «с введением преподавания самостоятельного курса истории Татарстана происходит переход от изучения только региональной истории ТАССР к изучению курса, объединяющего в себе региональный и этнический аспекты в истории татарского народа и Татарстана», и «преподаваемый ныне курс истории Отечества (“История России”) остается по-прежнему курсом истории становления российской государственности… имеющиеся программы и учебники… существующих курсов Истории России… фактически остаются по-прежнему курсами истории русской государственности» [Гибатдинов 2003: 68, 69]. Спустя 18 лет М. Гибатдинова не смущают постулаты русского мира, и в интервью 2021 г. он свою прежнюю точку зрения «отменяет»: «…сегодня мы рассматриваем историю татарского народа в контексте истории российского государства прежде всего»3.
Марат Гибатдинов – один из редакторов цитированного выше сборника «Рецензии на федеральные учебники по истории отечества» 2008 г. С позиций психологии интересно проанализировать, каким образом он преодолевает логическое противоречие между следующим высказыванием Р.Р. Салихова на конференции: «…не соответствуют исторической реальности попытки гипертрофированно негативной оценки миссионерской деятельности православ- ной церкви среди нерусского населения Российского государства», и фигурирующей в редактированном им сборнике рекомендацией «подчеркнуть [в школьном учебнике] алчность, корыстолюбие тогдашних церковников-священников и агрессивность их. Их агрессивность – одна из причин завоеваний» [Рецензии… 2008: 10] (Алишев С.Х.).
На роль другого «вызова» исторической науке Р.Р. Салиховым были определены мои исследования по исторической травме взятия Казани войсками Ивана IV в 1552 г. [Овчинников, Ершова 2020; Овчинников 2021]. Радик Римович не принял во внимание роль Института истории в актуализации «травмы 1552 г.», когда в 1990-е – нулевые годы выходящие из его стен академические работы было трудно отличить от воззваний ныне запрещенных и базирующихся за рубежом татарских националистических организаций (некоторые сотрудники учреждения пытались совмещать научную работу с активной общественной деятельностью подобного рода). Когда политическая элита Татарстана получила контроль над ресурсами региона, постепенно произошло и изменение общего вектора трактовки событий середины XVI в. Случился вызванный политическими причинами переход от, по моей терминологии, «радикальной» к «компромиссной» версии травмы. Р.Р. Салихов в своем выступлении озвучил именно «компромиссную» версию, один из конструктов которой заключается в том, что в 1552 г. под эгидой Москвы началось объединение позднеордынских территорий, положившее, в свою очередь, начало современной России (этот миф идеологически обосновывает автономное положение татарстанской элиты и потому является основой сегодняшних штудий Института истории АН РТ). В своих исследованиях я констатирую эти факты и, между прочим, отмечаю преимущества «компромиссной» версии перед «радикальной», что пытаюсь донести до читателя в научных публикациях и в немногочисленных по сравнению с числом интервью самого Р.Р. Салихова выступлениях в СМИ1.
Далее в своем выступлении Радик Салихов использовал публицистический прием негативного ряда, перечислив научных оппонентов «через запятую» с непрофессиональными авторами, утверждающими, например, тезис о происхождении татар от шумеров или древних египтян и олицетворяющими, по версии Р.Р. Салихова, следующий «вызов» исторической науке. Однако и здесь для Института истории АН РТ не все однозначно. Дело в том, что оперирующие мифами непрофессионалы являются такими же потенциальными оппонентами Института истории АН РТ, что и профессиональные исследователи, системно изучающие мифологию официальной истории Татарстана.
Главная претензия Р.Р. Салихова к «негосударственным мифотворцам», согласно его выступлению, заключается в использовании последними престижных мифов о «великих предках». Но позволю себе напомнить Радику Римовичу, что в рекламированной им на конференции «Истории татар» первыми их предками названы арийцы (см. параграф «Страна ариев» 1-го тома), что указывает на использование арийского мифа, так популярного у непрофессионалов (этот феномен проанализирован мною в отдельной статье) [Овчинников 2017а]. Оказалось, что принципиальной разницы между основными положениями «Истории татар» и произведениями «непрофессиональных мифотворцев» нет. Если бы у последних была государственная под- держка и возможность «завлекать» профессионалов узкой направленности (археологов, филологов, историков), то их обобщающие работы по степени академического признания были бы принципиально неотличимы от 7-томника «Истории татар».
Далее Р.Р. Салихов критиковал адептов мифологемы Великой Татарии, но Институт истории АН РТ, конструируя представления о «татарском мире» и его истории (например, в виде «тюрко-татарских государств древности и средневековья»), сам оказывается первым творцом этого мифа. Достаточно вспомнить опубликованную в 2018 г. книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала» тогдашнего директора и нынешнего научного руководителя Института истории, а по совместительству еще и председателя совета директоров ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» Рафаэля Хакимова [Хакимов 2018]. Вот примечательный отрывок из этой книги, перепечатанный в 2020 г. крупным татарстанским интернет-порталом «Реальное Время»: «На юбилей первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева президент России Владимир Путин подарил ему карту под названием “Великая Тартария”. Подарок оказался символическим, многие задались вопросом: «Что такое “Великая Тартария”? Татария или все же Тартария? Кто наследник Великой Татарии?»1 Что это, как не продвижение того самого мифа, который сегодня Р.Р. Салихов называет «вызовом» исторической науке? Еще два года назад Великая Татария олицетворяла «академический взгляд» на прошлое, а сегодня, оказывается, это опасный миф? Опять следует отметить выборочное, «инструментальное» использование мифов: нужный сегодня миф объявляется «точкой зрения официальной академической науки», а на следующий день он может быть объявлен «вызовом» той же самой «науке»…
Выступая на конференции «Россия: единство и многообразие», Р.Р. Салихов обрушился с претензиями на соседние с Татарстаном регионы, которые не спешат административными методами навязывать сконструированную в Казани идеологему о «единой татарской нации». Многие люди, живущие за пределами Татарстана и причисляемые татарстанскими гуманитариями к татарам, себя таковыми не считают, предпочитая идентичности башкир, ногаев, мишар, кряшен, нагайбаков и т.д. Реализацию конституционного права гражданина на национальную самоидентификацию (включая веру в рассказы о национальной истории) Радик Римович по привычке объявил, конечно же, «вызовом» исторической науке. Публицистический прием негативного ряда был им использован даже в отношении профессионального научного многотомника по башкирским родам [История башкирских… 2019], перечисленного с книгами в жанре фольк-хистори.
Элементом «внешней политики» Татарстана является стремление под озвученным Р.Р. Салиховым лозунгом борьбы с «непрофессиональными исследованиями» подчинить своему влиянию деятельность краеведов в других субъектах федерации. Речь идет о напоминающих политику «мягкой силы» попытках вмешательства в дела соседних российских регионов, чего последние в отношении происходящего внутри административных границ Татарстана себе не позволяют (например, так называемые всероссийские съезды татарских краеведов) 2.
Краеведы являются важной частью российской исторической культуры, их исторические построения решают не столько научные, сколько актуальные местные социально-политические проблемы (через прошлое иносказательно говорят о настоящем). Роль самостоятельных краеведов в поступательном развитии России, становлении гражданского общества более весома, чем того же Института истории АН РТ, выражающего, на мой взгляд, интересы лишь определенного, не самого многочисленного социального слоя (напомню, что в истории России подчинение государством краеведов происходило в моменты политического регресса: контрреформы Александра III в 1880-е гг. и усиление сталинской диктатуры в 1930-е; в последнем случае относительно самостоятельное краеведческое движение подверглось масштабному и систематическому разгрому) [Овчинников 2022].
Обвиняя своих оппонентов в непрофессионализме и публицистичности, Р.Р. Салихов во время доклада сам транслировал «главный миф национальных историй» [Овчинников 2017б]. «Без самосознания нет народа», а татарское самосознание было сконструировано лишь при советской власти, поэтому заявления Радика Римовича о «татарском народе» в XVI–XVIII вв., о «татарской буржуазии» XIX в. и некой «татарской фракции» (на самом деле – мусульманской) в Госдуме в начале XX в. не соответствуют действительности.
Обобщая фактологический материал данного компаративистского кейса, можно утверждать, что этнонациональные истории находятся на границе между наукой и социальными мифами. Одной из основных характеристик мифа является ситуативность, при которой его содержание структурируется не категориями логики, как в науке, а динамикой взаимодействия друг с другом множества социально-политических акторов. В свою очередь, это рождает феномен коллективной интеллектуальной собственности, когда индивидуум имеет не столько свое мнение, сколько «право» (и борьба за это «право» заменяет настоящую научную полемику) на озвучивание актуального на данный момент сегмента очередной «всем известной истины».
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00465,
Список литературы Ситуативные аспекты конструирования этнонациональных историй: кейс смены (отмены) парадигм официальных версий прошлого Татарстана
- Гибатдинов М.М. 2003. Преподавание истории татарского народа и Татарстана в общеобразовательной школе: история и современность. Казань: Алма-Лит. 158 с.
- История башкирских родов. Т. 34. Ч. 2. Кыпчак. (С.И. Хамидуллин, Б.А. Азнабаев, И.Р. Саитбатталов и др.). 2019. Уфа: НОЦ «История башкирского народа» ИИГУ БашГУ. 735 с.
- История татар с древнейших времен: в 7 т. Т. 1. Народы степной Евразии в древности. 2002. Казань: РухИЛ. 551 с.
- История татар с древнейших времен: в 7 т. Т. 5: Татарский народ в составе Российского государства (вторая половина XVI–XVIII вв.) (гл. ред. Р. Хакимов). 2014. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани РТ. 1028 с.
- Овчинников А.В. 2017а. Арийский миф в национализмах современного Татарстана. – Вестник Томского государственного университета. № 415. С. 86-101. DOI: 10.17223/15617793/415/12.
- Овчинников А.В. 2017б. О «главном мифе» национальных историй. –Нации и этничность в гуманитарных науках. Этнические, протонациональные и национальные нарративы: формирование и репрезентация (под ред. А.Х. Даудова, С.Е. Федорова). СПб: Алетейя. С. 79-87.
- Овчинников А.В. 2021. «Великий незнакомец» и урбанизационный фронтир (к проблеме социально-психологических оснований исторической «травмы 1552 года»). – Власть. Т. 29. № 1. С. 291-299.
- Овчинников А.В. 2022. Когда краеведение больше, чем краеведение: региональные особенности российской исторической культуры (на примере Республики Татарстан). – Государственное краеведение в Российской Федерации в конце XX – начале XXI веков: основные проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов (гл. ред. П.П. Вибе). Омск: ОГИК музей. С. 25-28.
- Овчинников А.В. 2023. Этнонациональные истории: социально-политические основания и экономика конструирования (по материалам Республики Татарстан). – Tempus et Memoria. Т. 4. № 1. С. 46-60.
- Овчинников А. В., Ершова Г. Н. 2020. 1552 год в сетевом сообществе Татарстана: социальные и политические аспекты версий исторической травмы. – Власть. Т. 28. № 4. С. 138-146.
- Рецензии на федеральные учебники по истории отечества. 2008. Казань: Институт истории АН РТ. 112 с.
- Хакимов Р.С. 2018. Как возникла Великая Татария и чем она стала. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ. 197 с.