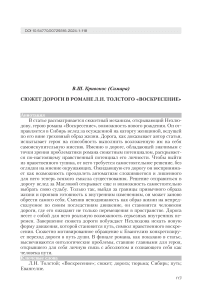Сюжет дороги в романе Л.Н. Толстого «Воскресение»
Автор: Кривонос В.Ш.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается сюжетный механизм, открывающий Нехлюдову, герою романа «Воскресение», возможность нового рождения. Он отправляется в Сибирь вслед за осужденной на каторгу женщиной, ведущей по его вине греховный образ жизни. Дорога, как доказывает автор статьи, испытывает героя на способность выполнить возложенную им на себя самоискупительную миссию. Именно в дороге, обладающей значимым с точки зрения проблематики романа сюжетным потенциалом, раскрывается по-настоящему нравственный потенциал его личности. Чтобы выйти из нравственного тупика, от него требуется самостоятельное решение, без оглядки на мнение окружающих. Ожидающую его дорогу он воспринимает как возможность преодолеть автоматизм сложившегося и лишенного для него теперь всякого смысла существования. Решение отправиться в дорогу вслед за Масловой открывает еще и возможность самостоятельно выбрать свою судьбу. Только так, выйдя за границы привычного образа жизни и проявив готовность к внутренним изменениям, он может заново обрести самого себя. Сменив неподвижность как образ жизни на непредсказуемое по своим последствиям движение, он становится человеком дороги, где его ожидают не только перемещения в пространстве. Дорога несет с собой для него реальную возможность серьезных внутренних перемен. Завершение сюжета дороги побуждает Нехлюдова искать новую форму движения, которой становится путь, символ нравственного воскресения. Сюжетно мотивированное обращение к Евангелию конкретизирует переход дороги в путь души. В финале романа, как показано в статье, высвечиваются онтологические проблемы, ставшие главными для героя, открывшего для себя личную связь с абсолютом и сознающего себя как человека пути.
Л.н. толстой, «воскресение», сюжет, дорога, тюрьма, сибирь, путь, евангелие
Короткий адрес: https://sciup.org/149145241
IDR: 149145241 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-118
Текст научной статьи Сюжет дороги в романе Л.Н. Толстого «Воскресение»
В романе «Воскресение» события, лежащие в основе действующего здесь сюжетного механизма, наделяются значимыми смыслами под углом зрения его символического названия, адресующего к универсальной ситуации «падение – возрождение», генетически связанной с мифолегендарной традицией (см.: [Лотман 1992, 242]). Перед Нехлюдовым, главным героем романа, впервые после нравственного падения, которое произошло с ним десять лет назад, открывается волею случая возможность радикального изменения характера и нового рождения. Он решает отправиться в дорогу вслед за соблазненной и брошенной им тогда девушкой, осужденной теперь на каторгу и по его вине, как он сознает, начавшей вести греховный образ жизни, поскольку от безвыходности обречена была на «жизнь хронического преступления заповедей божеских и человеческих…» [Толстой
1983, 15]. При этом актуализированный в романе мотив «соблазненная и покинутая» (см.: [Печерская, Никанорова 2010, 109–110]) существенно переосмысляется, поскольку его реализация не приводит, в отличие от устойчивой фабульной схемы, к трагическому для героини финалу; в процессе движения вместе с партией заключенных в Сибирь происходит нравственное возрождение и ее личности.
Была специально отмечена сюжетная роль хронотопа дороги в истории романного жанра [Бахтин 1975, 392–394], причем его сюжетообразующее значение остается неизменным на протяжении веков, хотя другие функции изменяются [Бахтин 1975, 398–399]. Нехлюдов, следуя в Сибирь за Катюшей Масловой, переживает описанное в известном пушкинском стихотворении «душевное состояние странника» [Кедров 1978, 251], мучимого сознанием своей вины. Будучи особого рода пространством, где по-своему обставляется «наиболее серьезными катастрофическими обстоятельствами» и проверяется то, «что Толстой считает в человеке коренным и основным» [Скафтымов 1972, 155], дорога испытывает героя на наличие коренного и основного в нем и тем самым на способность выполнить возложенную им на себя самоискупительную миссию. Именно в дороге, обладающей значимым с точки зрения проблематики романа сюжетным потенциалом, раскрывается по-настоящему нравственный потенциал его личности; сюжет дороги служит здесь языком осуществления идеи воскресения героя.
Что же послужило сюжетным толчком, побудившим Нехлюдова так резко и неожиданно для окружающих изменить свою жизнь? В «Воскресении» Толстой, как и в прежних своих произведениях, показывает «“историю души”» героя «за некоторый промежуток времени», в котором он «проходит ряд состояний», данных «во взаимном оценочном сопоставлении» [Скафтымов 1972, 145]. Состояние, предшествующее отъезду, описывается как растянувшаяся во времени духовная смерть героя, поскольку с ним в свое время совершилась «страшная перемена», когда «он перестал верить себе, а стал верить другим», почему все вопросы решались теперь «в пользу животного я » [Толстой 1983, 53]. Потому он и полагал, что «если все так делают, то, стало быть, так и надо», хотя воспоминание о поступке с Катюшей, которое привычно гнал от себя, все же не давало ему «утешиться» и «жгло его совесть» [Толстой 1983, 70].
Случайная встреча в суде потребовала от него «признания своей бессердечности, жестокости, подлости» [Толстой 1983, 71], но он не сразу покорился «тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем» [Толстой 1983, 83]. Смятение и колебания, отражающие идущую в его душе внутреннюю борьбу, пробуждают чувство, «…что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того бога, которого он вчера почуял в своей душе, и бог тут же отозвался в нем» [Толстой 1983, 156].
Пьер в «Войне и мире» совершает «ряд стихийных поступков, которых он не хотел совершать. В результате он приходит в состояние нравственного тупика…» [Бочаров 1985, 233]. В подобном состоянии пребывает и Нехлю- дов, хотя его поступок с Катюшей трудно назвать стихийным; история его превращения в развращенного эгоиста находит объяснение в сознательном оправдании им «желаний и поступков ориентацией на их всеобщность» [Галаган 1981, 167]. Конформизм Нехлюдова, побуждающий пренебречь дарованной ему как человеку свободой воли и отчуждающий его от своей человеческой сущности, ведет бездумному к существованию в воображаемом мире, имеющем мало общего с реальностью, но непредсказуемое вторжение реальности разрушает его представление о себе и его жизненные планы. Чтобы выйти из нравственного тупика, от него требуется самостоятельное решение, свободно им выбираемое, без оглядки на мнение окружающих. Решение, невозможное без сделанного им усилия, когда он призвал бога, которого почувствовал в своей душе: «Как ни ново и трудно было то, что он намерен был сделать, он знал, что это была единственная возможная для него теперь жизнь, и как ни привычно и легко было вернуться к прежнему, он знал, что это была смерть» [Толстой 1983, 299].
Сюжет дороги связан с личностным кризисом, переживаемым героем, и острым чувством случившейся с ним моральной катастрофы (ср.: [Та-марченко 2001, 359]). Принятое им решение должно было послужить выходом из состояния неопределенности, в котором он находится после судебного заседания. Ожидающую его дорогу он воспринимает как возможность преодолеть автоматизм сложившегося существования, отвечающего общепринятой норме. И как возможность самостоятельно выбрать свою судьбу. Только так, выйдя за границы привычного образа жизни и проявив готовность к внутренним изменениям, он может заново обрести самого себя (ср.: [Щепанская 2003, 26–27]).
Именно в дороге Нехлюдову суждено приблизиться «к себе самому, к своему подлинному Я, которое было заглушено и только теперь пробудилось» [Сурат 2017, 70]. Здесь совершается и «открытие нового для него социального и нравственного мира» [Журина 2003, 19]. Возникает ясно сознаваемая им необходимость измениться и стать другим – другим, то есть самим собой, каким он должен стать. Сестре, искренне не понимающей, для чего он едет и почему хочет «связать себя», он «сухо и серьезно» отвечает: «Еду потому, что так должно» [Толстой 1983, 357]. Он едет, движимый чувством неизбывной вины перед Катюшей, чтобы «помогать, облегчать ее участь» [Толстой 1983, 357].
Речь идет (если вспомнить, вслед за С.Г. Бочаровым, выражение Толстого из его «Исповеди») о пережитой героем «остановке жизни» [Бочаров 2012, 170] и поиске ответа на заново вставший перед ним вопрос о смысле его существования. Встреча в суде послужила первоначальным событием, приведшим к повороту, нарушившему налаженный образ жизни, и к перевороту в его самосознании, когда прояснилось, как ему должно поступить. Сменив грозившую ему смертью неподвижность на непредсказуемое по своим последствиям движение, он превращается в человека дороги, где его ожидают не только перемещения в пространстве; дорога несет с собой для него реальную возможность радикальных внутренних перемен. При этом сюжет дороги связан в романе с событиями, определяющими не только судьбу Нехлюдова, но и судьбу Катюши; в процессе движения меняется и ее личность. Катюша пробуждается от того сна жизни, в который она была погружена тягостными обстоятельствами, подорвавшими ее веру в людей.
С.Г. Бочаров, характеризуя изменение художественной манеры Толстого в «позднюю пору» [Бочаров 2012, 176], ссылается на наблюдения М.М. Бахтина, заметившего, что «воскресение», если понимать под ним процесс, происходящий в «живой душевной действительности», в романе, «собственно, не изображается» [Бахтин 2000, 197] и что автор ограничивает себя раскрытием «морального смысла переживаний Нехлюдова» [Бахтин 2000, 197–198]. Но переживания эти потому и несут в себе важный для характеристики происходящего с героем смысл, что непосредственно отражают смену состояний, имеющих непосредственное отношение к воскресению его души.
Отправившись в дорогу и покинув обжитой и привычный для него мир, система ценностей которого оказалась для неприемлемой, потому что ценности были ложными, герой осваивается в изначально чужом для него , но, как выясняется, не чуждом ему мире; сблизиться с этим миром и с населяющими его людьми удается ему не сразу и требует серьезных усилий, позволяющих преодолеть не только разделяющие их границы: «Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть, – для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно» [Толстой 1983, 108]. Подобное пробуждение, при всех мыслимых и немыслимых трудностях, связанных с процессом нового рождения его личности, демонстрирует способность Нехлюдова к резким переменам, оставаясь при этом «самим собою» [Толстой 1983, 201]. Самим собою, так как, несмотря на нравственное падение, ядро его личности не было непоправимо повреждено или разрушено.
Дорога в романе служит испытанием, выявляющем истинную человеческую сущность героя (о дороге как «испытании» человека см.: [Щепан-ская 2003, 39]). Движение навстречу неведомой реальности и ожидаемая встреча с ней определяет и его место в пространстве дороги, и обретаемый им новый статус – статус человека, свободно выбирающего не заданную ему внешними обстоятельствами, но свою собственную судьбу. Отсюда тревожащие его вопросы, касающиеся новой идентичности, которую он стремится обрести. Он вынужден задуматься над тем, кто он, почему он здесь и как ему следует жить. Отсюда и его действия, диктуемые желанием войти в «совсем новый, другой, новый мир», который ему предстоит освоить: «И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир» [Толстой 1983, 372]. Он и сам открывается этому новому для него миру, обнаруживая по мере движения сопричастность ему и проникаясь заботами встреченных им людей.
В дороге Нехлюдов занят не только самонаблюдением, позволяющим ему отмечать происходящие с ним перемены; он внимательно наблюдает и за переменами, происходящими с Масловой, и отмечает их, всякий раз вновь пересматривая свое к ней отношение, порой ошибаясь, но и признавая свои ошибки. Маслова же, которую удалось перевести от уголовных к политическим, чтобы избавить от мерзких преследований, которые «напоминали о том ее прошедшем, которое она так хотела забыть те- перь», в результате «узнала некоторых людей, имевших на нее решительное и самое благотворное влияние» [Толстой 1983, 374]. Так что дорога резко меняет и ее идентичность: «…общение же с новыми товарищами открыло ей такие интересы в жизни, о которых она не имела никакого понятия. Таких чудесных людей, как она говорила, как те, с которыми она шла теперь, она не только не знала, но и не могла себе и представить» [Толстой 1983, 378]. И Нехлюдов «…с каждым свиданием с нею стал замечать все более и более определяющуюся в ней ту внутреннюю перемену, которую он так сильно желал видеть в ней» [Толстой 1983, 383].
Наблюдаемая им и радующая его перемена вызывают у него к ней новое чувство, «никогда не испытанное им прежде», а именно «самое простое чувство жалости и умиления», которое из сиюминутного становится постоянным и распространяется на всех встреченных им и окружающих его людей: «О чем бы он ни думал теперь, что бы ни делал, общее настроение его было это чувство жалости и умиления не только к ней, но ко всем людям» [Толстой 1983, 383]. Если же проследить за историей его души, то прежнее состояние эгоистической сосредоточенности на самом себе сменяется принципиально другим состоянием «…в котором он невольно делался участливым и внимательным ко всем людям, от ямщика и конвойного солдата до начальника тюрьмы и губернатора, до которых имел дело» [Толстой 1983, 384]. А сближение с теми, о ком Нехлюдов прежде имел поверхностное или неверное представление, «… совершенно изменило его взгляды на них» [Толстой 1983, 384] и объяснило «…многое из того, чего он не понимал прежде» [Толстой 1983, 390].
В «Воскресении» Сибирь изображена, в соответствии со сложившейся традицией, не только как «крайний пространственный рубеж» [Березо-вич, Кривощапова 2011, 116], которого, в конечном счете, достигают герои, но и как место «испытания смертью» и обретения персонажами «нового качества» [Тюпа 2002, 28]. Будучи территорией каторги и ссылки, она служит в романе Толстого, как и вообще в русском романе XIX в., метафорой смерти и земного ада, но вместе с тем несет возможность воскресения (см.: [Лотман 1988, 339]). Адским местом предстает в восприятии Нехлюдова и тюрьма, показанная в романе как центр «отчужденного мира» [Kokoboko 2012, 10]. Но для Масловой тюрьма становится еще и искупительным местом, с которым связано ее нравственное возрождение.
Дорога в Сибирь, на каторгу, в запредельные земли, земли с признаками потустороннего мира, обнажает грубую реальность с характерным для нее крушением морали. Наблюдаемые Нехлюдовым и вызывающие у него «чувство нравственной, переходящей в физическую, тошноты» [Толстой 1983, 194] тюремные нравы, не только отталкивающие проявления животной похоти и ужасающего разврата, присущие уголовной среде, но и бесчеловечное отношение к заключенным, с которым он столкнулся в качестве посетителя тюрьмы, воспринимаются им как эксперименты над человеческой природой, призванные лишить человека человеческого облик: «“Точно как будто была задана задача, как наилучшим, наивернейшим способом развратить как можно больше людей”, – думал Нехлюдов, вникая в то, что делалось в острогах и этапах» [Толстой 1983, 424].
Увиденное в тюрьме для него отнюдь не тема отвлеченных моралистических рассуждений, но связано в его сознании с «последними» вопросами, которые он задает самому себе; он не может примириться с тем, будто «… есть на свете такие положения, в которых человеческое отношение с человеком не обязательно» [Толстой 1983, 360]. А все потому, что «…не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим богом написанный в сердцах людей» [Толстой 1983, 362]. Это приводит к отсутствию жалости и к бесчеловечности, что, на взгляд Нехлюдова, и характеризует состояние общества, отвергшего и не признающего за абсолютный этот вечный закон; люди «простые, обыкновенные» оставили понятия «христианской нравственности» и стали усваивать «новые, острожные, состоящие, главное, в том, что всякое поругание, насилие над человеческою личностью, всякое уничтожение ее позволено, когда оно выгодно» [Толстой 1983, 424].
Сюжет дороги завершается встречей и разговором Нехлюдова с Катюшей после вышедшего помилования, определившим неизбежность их расставания: «Дело его с Катюшей было кончено. Он был не нужен ей, и ему это было и грустно и стыдно. Но не это теперь мучало его. Другое его дело не только не было кончено, но сильнее, чем когда-нибудь, мучало его и требовало от него деятельности» [Толстой 1983, 452]. Он выполнил свой долг по отношению к Масловой, дорога пройдена им до конца, сюжет дороги исчерпан, но другое дело , требующее от него деятельности , побуждает искать новую форму движения. Происходит то, что было обозначено М.М. Бахтиным в качестве важной приметы романного жанра: переход реальной дороги «в метафору дороги, жизненный путь, путь души» [Бахтин 1975, 393].
Сюжетно мотивированное обращение к Евангелию, в котором Нехлюдов надеется найти «разрешение всего» [Толстой 1983, 453], конкретизирует переход дороги в путь души; речь идет о пути «символическом, выражающем непространственную динамику (духовное искание, развитие, движение к истине и т.п.)» [Журина 2003, 19]. Движение по такому пути означает, что остановки , как это случилось с ним в прежней его жизни, не произойдет. Ведь нравственное воскресение – это не завершенное событие, но бесконечно длящийся процесс. Так что не случайно формой «духовного существования» Нехлюдова, как и других «главных героев Толстого», таких как Пьер Безухов или Константин Левин, оказывается в итоге «именно путь» [Бочаров 1985, 245].
М.М. Бахтин в работе о слове в романе рассматривал привлекшие внимание Нехлюдова евангельские речения как авторитарный текст, остающийся «мертвой цитатой, выпадающей из художественного контекста» [Бахтин 1975, 157]. Однако эти речения становятся для него усвоенным им и органично присвоенным его собственным внутренним словом. Обращение к Евангелию «подтверждало, приводило в сознание то, что он знал уже давно, прежде, но не сознавал вполне и не верил», но зато теперь «сознавал и верил» [Толстой 1983, 457]; оно позволило ему обрести «дело» его «жизни»: «Только кончилось одно, началось другое», началась «совсем новая жизнь», когда «все, что случилось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, значение» [Толстой 1983, 458]. Так высвечиваются в финале онтологические проблемы, главные теперь для героя, открывшего для себя личную связь с абсолютом и сознающего себя человеком пути.
Закономерно, что для Нехлюдова, настойчиво ищущего в себе духовного человека, целью его существования становится, как в известных духовных практиках, «…сам путь, вступление на него, приведение своего Я , своей жизни в соответствие с путем» [Топоров 1983, 268]. История его потому и выглядит недосказанной, что смысл «нового периода его жизни» [Толстой 1983, 458] заключается в том, чтобы привести свое Я и свою жизнь в соответствие с выбранным им путем, путем его воскресшей души.
Список литературы Сюжет дороги в романе Л.Н. Толстого «Воскресение»
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.
- Бахтин М.М. Идеологический роман Л.Н. Толстого. Предисловие // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 2. М.: Русские словари, 2000. С. 185–204.
- Березович Е.Л., Кривощапова Ю.А. Сибирь в русской языковой традиции (на иноязычном фоне) // Пространство и время в языке и культуре. М.: Индрик, 2011. С. 110–156.
- Бочаров С.Г. Генетическая память литературы. М.: РГГУ, 2012. 341 с.
- Бочаров С.Г. О художественных мирах. М.: Художественная литература, 1985. 296 с.
- Галаган Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно-этические искания. Л.: Наука, 1981. 176 с.
- Журина О.В. Роман «Воскресение» в контексте творчества позднего Л.Н. Толстого: модель мира и ее воплощение: автореф. дис. … к. филол. н.: 10.01.01. СПб., 2003. 23 с.
- Кедров К. «Уход» и «воскресение» героев Толстого // В мире Толстого. М.: Советский писатель, 1978. С. 248–273.
- Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. С. 325–349.
- Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. I. Таллинн: Александра, 1992. С. 224–242.
- Печерская Т.И., Никанорова Е.К. Сюжеты и мотивы русской классической литературы. Новосибирск: НГПУ, 2010. 162 с.
- Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. М.: Художественная литература, 1972. 544 с.
- Сурат И.З. Человек в стихах и прозе: Очерки русской литературы XIX–XXI вв. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 344 с.
- Тамарченко Н.Д. Лев Толстой // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2001. С. 336–389.
- Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. XIII. М.: Художественная литература, 1983. 494 с.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 229–247.
- Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 28–35.
- Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М.: Индрик, 2003. 528 с.
- Kokoboko A. Estranged and Degraded Worlds: The Grotesque Aesthetics of Tolstoy’s Resurrection // Tolstoy Studies Journal. 2012. Vol. XXIV. P. 1–14.