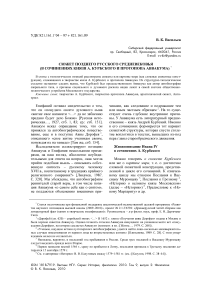Сюжет позднего русского средневековья (в сочинениях князя А. Курбского и протопопа Аввакума)
Автор: Васильев Владимир Кириллович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье с типологических позиций рассмотрены сюжеты или картины мира (как сложные сюжетные конструкции), сложившиеся в творчестве князя А. Курбского и протопопа Аввакума. Их структурно-типологическое сходство заставляет сделать вывод, что Курбский был предшественником Аввакума как автор автобиографии сакрального типа, а причины социального и духовного раскола нации лежат в самой системе общественно-политического устройства Московского государства.
Творчество а. курбского, творчество протопопа аввакума, архетипический сюжет, антихрист
Короткий адрес: https://sciup.org/14737221
IDR: 14737221 | УДК: 821.161.1'04
Текст научной статьи Сюжет позднего русского средневековья (в сочинениях князя А. Курбского и протопопа Аввакума)
* Статья подготовлена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010)», проект № 2.1.3/6794: «Древнерусский четий сборник как литературный факт (канон и творческие модификации)». Руководитель – д-р филол. наук, проф. Е. И. Дергачева-Скоп.
Указанная картина мира носит эсхатологический характер. Одна из сущностных ее составляющих – жизнеописание Ивана IV, «новоявленного», «прелютого зверя», «домовых грабителя и убийцы сынов», «губителя» «святоруской земли» и «рода человеческого », « мучителя варварского», «антихристова сына и стаиника» (!) [Курбский, 1986. С. 322, 326, 348, 354, 360], который и «Нерона презлаго превзыде лютостию и различными нисповедимыми сквернами» 6 [Там же. С. 340] и т. п.
В «Истории» автор объясняет перемену, случившуюся с «прежде добрым и нарочитым» [Там же. С. 218] московским князем, называет причины, породившие зло в его характере. Это раннее сиротство, воспитание малолетнего наследника «великими гордыми» боярами в потакании его порокам, следование «злым советникам», козни дьявола. Но есть еще одна. «Аще бы из начала и по ряду рех, много бы о том писати, яко в предобрый руских князей род всеял диявол злые нравы, наипаче же женами их злыми и чародеицами. <…> паче же которых поимовали от иноплеменников » [Там же].
Такой иноплеменной женой была вторая жена великого князя Василия III (1479– 1533, на престоле с 1505 г.), мать Ивана Грозного литвинка Елена Глинская (ок. 1510–1538) 7. Двадцатилетний брак Василия с первой женой Соломонией Сабуровой (ок. 1490–1542) оказался бездетным. В ноябре 1525 г. Соломония (жена, «Богом данная, святая и неповинная» [Там же]) была пострижена и заточена в монастырь.
Елена была красива и значительно моложе своего жениха 8. «Пафнутьевский лето-
-
6 В данном контексте важно, что Нерон в христианской традиции император-Антихрист, в имении которого зашифровано «число зверя», 666.
-
7 У этого брака как незаконного было множество противников в православном мире. В «Повести о втором браке Василия III» (предполагается, что она написана после смерти Грозного) старец Вассиан Патрикеев называет брак «прелюбодеянием», грозит Василию III тем, что Бог наведет за его грех варварское воинство, и предупреждает, что церковные правила «не повелевают» ему ступить на церковный порог. Противник брака Иерусалимский патриарх Марк «предвидит» рождение в великокняжеском семействе будущего злодея, который наполнит царство ужасом и печалью, прольет реки крови (см.: [Зимин, 1976. С. 132–148]).
-
8 «Лет на 25» [Скрынников, 1983. С. 8]. Вероятнее, разница была около 30 лет (см.: [Панова, 2006. С. 12]).
писец сообщает, что великий князь “возлюбил” Елену “ лепоты ради лица и благообра-зиа възраста…”» 9. Для того чтобы понравиться своей избраннице, великий князь решился на весьма смелый, греховный по тем временам поступок: сбрил бороду 10.
Только через четыре с половиной года Елена родила сына. В год свадьбы (она состоялась в январе 1526 г.) Василию исполнилось 47 лет, великокняжеское семейство торопилось обзавестись наследником. Курбский пишет, что Василий с « законопреступною женою , юною сущею, сам стар будущи, искал черовников презлых отовсюду, да помогут ему ко плодотворению » [Там же. С. 340]. «О чаровницах же оных так печа-шесь, посылашеся по них тамо и овамо, аже до Корелы, еже есть Филя (Финляндия) <...> и оттуду провожаху их к ним летущих оных и презлых советников сатанинских . И за помощию их от прескверных семян, по преизволению презлому , а не по естеству, от Бога вложенному, уродилися ему два сына. Един <...> прелюты и кровопийца <...> А други был без ума и бес памяти и безсло-весен, такоже аки див якой родился» [Там же] 11.
Таким образом, Иван Грозный родился, во-первых, от прелюбодеяния его отца с иноплеменницей 12, во-вторых, от колдовства. Родился не обычный ребенок, но великий злодей. «Тогда зачался нынешний Иоан наш, и родилася в законопреступлению и во сладострастию лютость » [Там же. С. 220].
Но зло в роду московских князей появилось еще раньше. Не только Грозный родился от иноплеменной жены, но и сам Василий III. Отец его, великий князь Иван III, также был женат дважды. Василий – сын как раз от второго брака. Первая жена Ивана III, тверская княжна Мария, умерла в
1467 г. (Так же, как и Соломонию Сабурову, Курбский называет ее «святой» [Там же. С. 322].) Второй его женой стала племянница последнего византийского императора Константина ХI Софья Палеолог. Отношение Курбского к этому браку, заключенному Иваном III (в 1472 г.) не без соображений о поднятии политического престижа и укрепления самостоятельности великокняжеской власти, выражено в «Истории» одной фразой, но также негативной: «Той-то князь Василей <...> от чародеицы греческие рожден » [Там же. С. 372].
Курбский обнаружил начало зла в роду московских князей, разгадал тайну отпрыска этого рода: Иван IV – злодей по своей природе . Появление на свет отпрыска московского великокняжеского рода – воплощение греха уже в третьем поколении, значит, он несет в себе больше зла, чем его предки (мотив накопления, возрастания греха). В Третьем послании, характеризуя «издавна кровопивственный род», он припоминает убиение в Орде Михаила Тверского (в 1318 г.) по наветам князя Юрия Московского. «Яко есть некоторым издавна обычай (“тела своего ясти и крове братии своей пи-ти”. – В. В .), яко первие дерзнул Юрей Московский в Орде на святого великого князя Михаила Тверскаго» [Переписка…, 1993. С. 109]. Судьба Ивана IV – переполнить «меру кровопивцев – отца своего и матери твое и деда» [Курбский, 1986. С. 322].
Курбский предвидит в судьбе Грозного возмездие Божие, призывает его покаяться и возвратиться к Христу. «Поки еще есмя не распряглися от тела, понеже несть во смерти поминания и во аде исповедания или покаяния всяко» [Переписка…, 1993. С. 115]. Через библейскую притчу писатель-эмигрант пророчествует Грозному гибель царского дома, исчезновение рода. «…Яко и блаженный Давид рече: не пребудет долго пред Богом, которые созидают престол беззакония (см.: Пс. 93, 20) <…>. И аще погибают ца-рие или властели, яже созидают трудные декреты и неудобь подъемлемые номоканоны, кольми паче не токмо созидающе неудобь подъемлемые повеления или уставы (!) 13 з домы погибнути должны. Но во яковых сии обрящутся, яже пустошат землю свою и губят подручных всеродне, ни сосу- щих младенцов не щадяще!» «Не губи к тому себя и дому твоего! Аще рече Давид: “Любяй неправду, нанавидит свою душу” (см.: Пс. 10, 5), кольми паче кровьми хри-стиянскими оплывающии ищезнут воскоре со всем домом!» [Переписка…, 1993. С. 117].
Иван IV пережил своего обличителя, но пророчество сбылось в реальной истории, на детях Грозного род Рюриковичей оборвался.
Жизнеописание патриарха Никона в сочинениях протопопа Аввакума
Аввакум разгадывает ту же загадку, что в свое время встала перед князем Курбским. Переживая крах всей православно-обрядовой традиции, существовавшей на Руси со времен крещения, он пытается решить вопрос о происхождении зла в Русской земле: почему «ныне нам от никониян огнь и дрова, земля и топор, и нож и виселица» ? [Русская…, 1927, стб. 350]. Естественно, что корень зла он видит в своем главном духовном противнике, зачинателе реформ, патриархе Никоне.
В сочинениях пустозерского периода Аввакум создает мифологическую биографию Никона.
Следуя за Н. С. Демковой, можно сделать вывод, что перелом в настроениях Аввакума, от надежд на отмену никоновских реформ до их крушения, произошел между 1673 и началом 1675 г., т. е. в 1674 г. Названная биография Никона написана после этого перелома (см.: «Книга толкований» (1674–1677), Послание «отцу» Ионе (1676– 1682), сочинение о происхождении Антихриста 14).
В «Книге толкований» Аввакум пишет о патриархе: «А он детинка-бродяга был, и у Макарья Желтовоцкаго поводился в крыло-се, – Никитка Минин 15. А таки одва (так!) не татарка ли ево родила, – там-веть татар-тех много» [Там же, стб. 463]. В данных словах выражено сомнение в том, что ниспровергатель веры, более шестисот лет неколебимо стоявшей на Руси, злодей-мучитель, мог родиться от русской женщины, которая эту веру исповедовала.
Вероятно, пустозерские сидельцы пытались выяснить, кто же были родители патриарха, и получали определенную информацию. В Послании к «отцу» Ионе греховное происхождение Никона Аввакум связывает не с матерью, а с отцом. «Я Никона знаю: недалеко от моей родины родился <...> отец у него черемисин , а мати русалка 16, Минка да Манька; а он, Никитка, колдун учинилься, да баб блудить научился 17 , да в Желтоводие с книгою поводился, да выше, да выше, да и к чертям попал в атаманы » [Там же. С. 894].
Никон в спорах его противников – Антихрист или же его предтеча. Аввакум видит в Никоне (еще в декабре 1666 г. лишенного патриаршей власти) предтечу Антихриста. «Любимой антихристов предотеча» [Там же, стб. 871 и др.]. «А Никон, веть, не последней антихрист, так – шишь антихристов, бабо.., плутишко, изник в земли нашей » [Там же, стб. 894] и мн. др.
Рождение Никона в нижегородской земле предварило в представлении Аввакума грядущее рождение посланника дьявола, он описывает его по аналогии с этим апокалипсическим событием. «Род антихристов си-цев есть. А родится он, антихрист, от жидов, от колена Данова. <…>
Я от попа родился 18, а Никона черемисин Минька добыл в деревнишке, то есть разум слову сему.
Воньмите, тем образом и антихрист родится беззаконным, яко и Никон, последней предотеча его, от черемисина. Яко антихрист зачнется духом дьявольским от же- ны жидовки, тако и Никон зачатся от хри-стиянки черемисином» [Демкова, 1965. С. 231].
Подобно Антихристу, патриарх – «великий обманщик», человек в личине добродетели, скрывающий за ней свою подлинную природу. Антихрист «исперва будет казати-ся людем кроток, и смирен, и милостив, и человеколюбив: слово в слово как Никон, ближней предтеча его, плакать горазд. Я ево высмотрил дияволова сына до мору-тово еще, – великой обманщик, блядин сын! Как-то при духовнике-том, Стефане [Вонифать-еве] вздыхает, как-то плачет, овчеобразный волк. В окно ис палаты нищим денги бросает, едучи по пути нищим золотые мечет! А мир-от слепой хвалит: государь такой-сякой, миленкой, не бывал такой от веку! А бабы молодые, - простите Бога ради, -и черницы (!), в палатах-тех у него вере-менницы, тешат его, великого государя пресквернейшаго. А он их холостит блядей . У меня жила Максимова попадя, молодая жонка, и не выходила от него: когда-сегда дома побывает воруха; всегда весела с воток да с меду; пришед, песни поет: у святителя государя в ложнице была, вотку пила <...> Слово в слово таков-то и антихрист будет 19 . Лстив сый исперва, а егда поставят его царем <...> зверообразен будет, и жесток, и немилостив; тайну ту откроет всю сердечную злобную, да понесет пластать да вешать люди » [Русская…, 1927, стб. 460–462].
Никон и на патриарший престол «по попущению Божию вскрался», «оболстя святую душу протопопа духовнаго царева, Стефана, являяся ему яко ангел, а внутрь сый дьявол» [Там же, стб. 245]. Аввакум сожалеет, что сам обманулся – к челобитной царю о поставлении Никона в патриархи приписал свою руку. «Ано врага выпросили и беду на свою шею» [Там же, стб. 246]. Ср. в «Житии»: патриарх перед поставлением ведет себя «яко лис» [Там же, стб. 96]. «Ведает, что быть ему в патриархах, и чтоб отколя помешка какова не учинилась. Много о тех кознях говорить! Царь его на патри- аршество зовет, а он бытто не хочет, мрачил царя и людей, а со Анною [Ртищевой] по ночам укладывают, как чему быть, и много пружався со дияволом, взошел на патриаршество Божиим попущением, укрепя царя своим кознованием и клятвою лукавою» [Там же, стб. 168].
Мотивы блудной жизни переносятся на патриарха прежде всего потому, что он порушил старую веру, учинил великую ересь на Руси. Нововведения Никона - «вор-блядь», предстающая в образе пьяной блудной церковной жены, которая «безпрестан-но пиет кровь свидетелей Исусовых» (т. е. мучеников за веру). «Ну, разумеете ли про жену-ту, чада церковная? Всякая ересь блядня глаголется » [Там же, стб. 433] (Аввакум использует параллель к апокалипсическому образу (см.: Откр. 17, 3–6)). Отбросив размышления о конкретном происхождении Никона (строкой выше он предположил его матерью татарку), Аввакум заключает: «Да плюнем на него! Кто ево ни родил, однако блядин сын от дел звание приемлет 20 . Блядь пишется ложь 21 . Правда от Бога, а ложь от диявола. Сын он дияволь, отцу своему сатане работает » [Русская…, 1927, стб. 463, 464]. Никон – «еретик» [Там же, стб. 466], «адов пес» [Там же, стб. 66] «кобель борзой», «враг» [Там же, стб. 283], апокалипсический «лживый пророк - учитель лукавой» [Там же, стб. 818, 868] и пр.
Как Курбский отыскал корень зла в характере Ивана Грозного, так и Аввакум разгадал тайну мучителя-Никона: он злодей по своей природе, «блядин сын», так как рожден в блуде от христианки (а может и татар- ки) и иноплеменника. Даже если это не так, то он – «блядин сын» по своим делам. «Злое корение» [Там же, стб. 729] – новое учение Никона. Патриарх – блудник, колдун и чернокнижник и, вообще, занимает высшее место (атаман!) в иерархии нечисти. Все деяния его ошибочны, неистинны и неправедны.
В «Книге толкований» Аввакум грозил Никону «местью», будущим «воздаянием» от Владыки (см.: [Там же, стб. 445]). Он пережил своего противника чуть более чем на восемь месяцев. Известие о смерти патриарха дошло в Пустозерск (очевидно, без каких-либо подробностей), и протопоп успел откликнуться на это событие. Он ставит смерть Никона в общий ряд смертей сторонников реформ. «И Ларион-то, архиепископ Резанской зле изверг душю свою: ноги у него отсохли, и мучася много, изъчез, яко прах. <...> Тако же и Лаврентий, Казанской митрополит умре, и не погребоша его, и исполни град вони злосмрадныя <...> Еле человеком дыхать живущим в Казани той, дондеже мерьтвечину ту его земля взяла. Ну, сквозь землю с Ларионом-законопо-ложником в кромешной ад! Да и Никон тако же нелепою смертию скончался. Да и все они, наследницы адъстии, умирают так » [Демкова, 1965. C. 228].
О генезисе сюжетаи его жанровом варианте
Рассмотренные сюжеты являют собою структурные тождества. (Очевидна и специфика каждого из них.) Генетически они восходят к сюжету-архетипу об Антихристе.
Антихрист рожден от блуда и сам универсальный блудник; «человек беззакония, сын погибели» (2 Фесс. 2, 3), он приходит в мир «против» и «вместо» Христа – как узурпатор его власти и в его облике. Он послан дьяволом прельстить людей проповедью лжеучения. Он мучитель, убийца всякого, кто не поклонится «образу звериному» (см.: Откр. 13, 15). Конечная участь Антихриста – возмездие Божие, исторжение греховного рода, наследование ада за зло, совершенное на земле (подробнее см.: [Васильев, 2006. С. 34–38] и др.).
Время Антихриста – время мученической жизни. Сюжет Курбского и Аввакума в полном виде моделируется как сюжет жития-мартирия. Специфика ситуации заключается в том, что это житие пишется не третьим лицом и не о прошлом, т. е. не может быть сюжетом, зафиксированным и представленным в традиционной канонической форме, как было в русской литературе в предшествующие эпохи. Это житие творится сейчас. Его форма размыта, реализуется не в едином произведении, а системе разножанровых текстов. Прошедшее время в нем меняется на настоящее, вместо третьего лица – повествователя, пишущего о факте, случившемся в прошлом и не с ним, выступает первое лицо – повествователь, живущий внутри мученического конфликта, пишущий о невинно убиенных, пострадавших от рук власти своих современниках, и о себе как о мученике. Мученичество теперь не является частным фактом (как, например, в ситуации с Борисом и Глебом, Михаилом Черниговским и боярином Федором, Михаилом Тверским и пр.), оно характеризует взаимоотношения человека и государства, в том числе писателя и власти. «…мученичество в глазах Курбского распространилось на всю русскую землю. Вот почему отчасти Курбский прибегает к выражению – “Земля Святорусская” и переосмысляет его. Если выражение “Святая Русь” означало раньше по преимуществу [наименование] страны со многими святынями – монастырями, церквами, церковными реликвиями самого разнообразного характера, то теперь “Святая Русь” стала, с его точки зрения, еще и землей многих святых мучеников, невинных страдальцев...» [Лихачев, 1993. С. 211] (ср. с ситуацией в расколе).
Так складываются исторические условия, продуцирующие автобиографию сакрального типа, основанную на представлении автора о себе как о святом…
В ХVI в. участники «по ту сторону» конфликта – тысячи и тысячи русских людей. Гибель более четырехсот из них описывает князь Андрей в мартирологе, во второй части «Истории». Он внес бы и большее количество, но «невмесно писати широкости ради».
В произведениях цикла «автобиография» Курбского предстает в качестве некоего собственного жития. Это житие книжника, идеального христианина-воина, «мученика произволением». Его основные мотивные составляющие:
-
• происхождение от святого корня, от «благородных» родителей;
-
• глубокое знание христианского учения;
-
о тречение от мирского во имя воинского служения;
готовность к мученичеству на поле брани (подробнее см.: [Васильев, 2003. С. 126–129]).
С этой, по существу, сакральной позиции Курбский обличает царя-антихриста. Мы употребляем данное определение исходя не только из архетипических смыслов сюжета об Иване IV, но и из той реальной позиции, которую занимает беглый князь. «Выступая против монарха, князь Андрей стремился придать своему протесту богословское обоснование и опирался на традиции церковной литературы.
Неповиновение Грозному принимало характер священной войны с Антихристом, всякий пострадавший в борьбе с троном превращался в мученика, а пролитая кровь становилась святой и взывала к Богу об отмщении. В этой идее Курбский нашел оправдание своему бегству от “сопротивного” православию тирана…» [Калугин, 1998. С. 179–180]. Ср.: «Присяга на верность монарху, вступившему в союз с Антихристом, утрачивала законную силу. Долг каждого христианина заключался в том, чтобы не покоряться, а бороться с такой властью всеми возможными средствами. Всяк пострадавший в борьбе с Антихристом превращался в мученика, а пролитая им кровь становилась святой» [Скрынников, 1992. С. 196].
О глубине национального раскола в ХVI в. свидетельствует тот факт, что структура, подобная описываемой, реализуется в «воинских повестях агиографического типа» (см.: [Васильев, 2008. С. 157–196]). Сопоставление данных структур уравнивает позицию Ивана Грозного и кромешников по отношению к замученным единоплеменникам с позицией внешнего врага. Сказанное верно по отношению к ХVII в. и последующим.
Выявленная типология позволяет определить особость русского (государственного) исторического пути с эпохи Московского царства. Это «не путь» или путь Антихриста.
В методологическом плане означенная сюжетная типология позволяет обнаружить в русской литературе «повторяемость в широких масштабах» (В. Я. Пропп) и выстро- ить ее историю на предложенных структурно-типологических принципах.