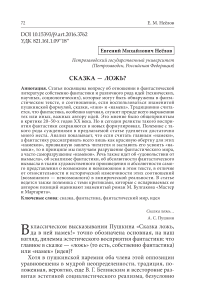Сказка - ложь?
Автор: Нелов Евгений Михайлович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу об отношении в фантастической литературе собственно фантастики и различного рода идей (технических, научных, социологических), которые могут быть обнаружены в фантастическом тексте, о соотношении, если воспользоваться знаменитой пушкинской формулой, сказки, «лжи» и «намека». Традиционно считается, что фантастика, особенно научная, служит прежде всего выражению тех или иных, важных автору идей. Это мнение было общепринятым в критике 20-50-х годов XX века. Но и сегодня реликты такого восприятия фантастики сохраняются в новых формулировках. Полемике с такого рода суждениями в предлагаемой статье уделяется достаточно много места. Анализ показывает, что если считать главным «намеки», а фантастику рассматривать всего лишь как красивую обертку для этих «намеков», призванную завлечь читателя и заставить его усвоить «намеки», то в принципе мы получаем разрушение фантастического мира, а часто саморазрушение «намеков». Речь также идет об «удовольствии от вымысла», об эскапизме фантастики, об абсолютности фантастического вымысла в ткани художественного произведения и абсолютности самого представления о возможном и невозможном в этом тексте, в отличие от относительности и исторической изменчивости этих соотношений (возможного - невозможного) в эмпирической реальности. В статье ведется также полемика с теми критиками, которые с оспариваемых ее автором позиций оценивают знаменитый роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Сказка, фантастика, фантастический мир, идея
Короткий адрес: https://sciup.org/14749002
IDR: 14749002 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3762
Текст научной статьи Сказка - ложь?
В классическом высказывании Пушкина «Сказка ложь, да в ней намек!» точно обозначена основная, на наш взгляд, дилемма эстетического восприятия фантастики: что главное в сказке — «ложь» (то есть, собственно фантастика) или «намек» (идея)?
Хотя в пушкинской паремии оба члена этой оппозиции уравновешены в мудрой неопределенности, традиция, положенная, вероятно, еще В. Г. Белинским и всесторонне развитая эстетикой социалистического реализма, безусловно отдавала приоритет «намеку», допуская фантастическое лишь в качестве некоей внешней косметической упаковки идейного содержания произведения. Недаром В. Г. Белинский, пусть и в полемическом задоре (вызванном спорами вокруг «Двойника» Ф. М. Достоевского), но вполне убежденно заявлял: «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов» [4, 320].
Философы конца XX века, понимая, что в строгом смысле слова в реальной действительности фантастики как особого свойства, качества или отношения не существует, и она поэтому появляется только в искусстве и находится, стало быть, все-таки в ведении поэтов, справедливо, как А. В. Гулыга, считают фантастическое «всеобщей эстетической категорией» [7, 145]. Однако и сегодня скрыто или явно этой «всеобщей эстетической категории» часто отводится подсобная, сугубо техническая роль. Так, А. В. Гулыга, столь высоко оценивший фантастическое, далее, сравнивая булгаковский роман «Мастер и Маргарита» с научно-фантастической повестью С. Лема «Солярис», в сущности, лишает фантастику эстетической самостоятельности, утверждая, что «внимание обоих авторов приковано к одной и той же проблеме: судьба человека в современном мире. Любая фантастика в искусстве — прием, способ воплощения идеи» [7, 148]. Такая точка зрения в отечественной гуманитарной науке к концу 80-х годов нашего века представлялась столь бесспорной, что вошла и в учебники: «Все богатство вымысла в волшебных сказках обнаруживает социальный смысл и зависимость фантастики от идеи» [3, 185]. Если согласиться с этим утверждением, то тогда надо согласиться и с мыслью о том, что для современного человека сказки интересны и поучительны, «если внимание заостряется не на поверхностном фантастическом содержании, а на глубинном смысле произведений» [9, 167].
Подобный подход, последовательно проведенный, во имя «смысла» (идеи) уничтожает фантастику, и особенно это заметно тогда, когда он практически применяется. И тогда становится ясно, что уничтожение фантастики оборачивается уничтожением (или, по крайней мере, искажением) также и самой идеи, ибо «глубинный смысл произведения» кроется, как можно полагать, не за пределами «фантастического содержания», опрометчиво названного в только что процитированном суждении «поверхностным», но в нем самом.
Вот пример, В. П. Аникин, исходя из особой «зависимости фантастики от идеи», предлагает разбор известной фольклорной сказки «Царевна-лягушка». Он приходит к выводу о том, что «основу сказочного повествования составляет социальное неравенство, существование противоположной морали и этики. Это главное в сказке, и традиционный вымысел всецело и бескомпромиссно выражает идеи нового времени. Волшебный вымысел стал чистой поэтической условностью» [2, 148].
Что это означает на практике?
Во-первых, это означает уничтожение фантастики: «Становится ясным, что основной сюжетный конфликт основан на воспроизведении в условной поэтической форме могущего встретиться в жизни несоответствия внешнего облика и внутреннего достоинства человека» [1, 8]. Сказка при таком ее толковании превращается в притчу, в некое моральное иносказание.
Во-вторых, превращение сказки в однозначное моральное иносказание («в условной форме вымысла передана тема неравного брака» [1, 8]) рассказывается не только неадекватным непосредственному содержанию фольклорного текста, но и деформирует его. Сказка, из которой изгнали «ложь» (фантастику) и оставили один голый «намек» (идею), становится просто нелепой: Иван-царевич — «человек, который остался верен прежним этическим нормам. Он не ищет богатства и женится на п р о ст о й б ол о т н о й л я г у ш ке» [2, 148].
Ну как, скажите на милость, можно жениться на простой болотной лягушке? Исследовательская оптика, построенная на убеждении, что фантастика — всего лишь способ воплощения идеи и поэтому ею можно пренебречь, пропускает, не замечает в сказочном тексте все богатство его собственно сказочных и мифопоэтических смыслов1.
В еще более резкой форме уничтожение фантастического обнаруживается в истории критики, посвященной жанрово-обусловленной (восходящей к поэтике фольклорной волшебной сказки) литературной фантастике и особенно — фантастике научной. Традиционное, окончательно сложившееся в 30-е годы отношение к этому жанру исходило непосредственно из примата идеи: научная фантастика — это область популяризации различного рода естественно-научных и технических идей и поэтому, как заметил один из довоенных критиков, «основное, что необходимо для каждого автора научно-фантастического романа — это серьезное знакомство с наукой и техникой» [10, 101].
Удивительным образом этот вульгарно-социологический взгляд на мир фантастики сохранился до конца XX века, то выступая в новой и популярной форме «мифотворческой теории», предполагающей, что научная фантастика есть некая разновидность современной научной (точнее, околонаучной) мифологии2, то выражаясь с прямо-таки реликтовой категоричностью и наивностью: «Для фантастики характерна такая специфическая черта, как доведение до читателя научных знаний, объединенных в логическую систему и вплетенных в ткань общехудожественного повествования. Этот момент чрезвычайно важен, ибо он иллюстрирует действенный характер всей научно-фантастической литературы: человек после прочтения книги не витает, как это считается, в заоблачных высях, а приобретает знания…» [11, 107]. Под этим заявлением современного автора с удовольствием подписался бы и критик 30-х годов.
Любопытно (и закономерно!), что подобное восприятие научной фантастики в конечном счете тоже приводит к ее отрицанию. Логика рассуждения здесь предельно проста: если главное в фантастике — идея, а количество новых научных идей не безгранично, то «явное сокращение притока новых идей <…> ощущается как явление кризисное в современной фантастике», — утверждает Т. А. Чернышева, не случайно назвавшая свою статью так: «Надоевшие сказки XX века» [21, 70]. И в XXI веке обнаруживаются критики и даже писатели (!), сохраняющие подобные представления о фантастике. Так, например, И. Константинов в предисловии «От автора» к своей повести-фэнтези «Прорыв» предупреждает читателя: «Тут есть и погони, перестрелки, жаркие схватки со всякой нечистью. Все это лишь обертка для тех мудрых мыслей, которые автор почерпнул в православной литературе»3. К слову сказать, автор не замечает, что своим простодушным заявлением обделяет и православную литературу, и читателя, ибо, «мудрые мысли», по его мнению, обязательно требуют яркой «обертки», без которой они оказываются не интересными, не способными увлечь читателя.
Таким образом, если мы в сказке противопоставим «ложь» и «намек»4, отдав приоритет последнему, то сказка нам надоест, перестанет быть интересной (ибо «намек» мы уже усвоили, извлекли из текста, так сказать, практическую пользу). А что может быть хуже неинтересной сказки? В самом деле, выражение «скучный роман» вовсе не означает, что этот роман непременно плохой, но выражение «скучная сказка» («скучная фантастика») означает эстетическую смерть произведения.
Вероятно, именно с ощущения удовольствия от фантастики, исключающего «скуку», и начинается ее эстетическое восприятие. Еще в начале XIX века Якоб Гримм (в письме Арниму от 29 декабря 1812 года) прозорливо заметил: «Сказки основаны на том, что все люди, и взрослые, и дети, любят слушать и получают от этого большое удовольствие»5. В сущности, эту мысль более чем сто лет спустя повторяет Я. Э. Го-лосовкер, вспоминая свой лагерный опыт и реакцию заключенных на «невероятные» истории: «…чем повествование невероятнее, фантастичнее, тем наслаждение сильнее» [6, 141]. Вообще, подчеркивает философ, «эстетическое наслаждение, которое испытывают исстари слушатели сказочников <…> было наслаждение выдумкой, фантастическим» [6, 140].
Но чтобы испытывать наслаждение от выдумки, надо прежде всего осознавать ее, то есть ощущать установку на вымысел как эстетическое свойство текста или, другими словами, осознавать (пусть эмпирически) возможное и невозможное в реальности и его отражение в художественной ткани произведения, в котором данное противопоставление структурно закреплено в единстве «сказочной реальности» и «духа науки» (в научной фантастике) или той же самой «сказочной реальности» и «детскости» (в литературной сказке или «магического мироощущения» в фэнтези). Как нами уже отмечалось, противопоставление возможного и невозможного регулируется общепринятой для той или иной эпохи картиной мира, и поэтому оно исторически относительно, закрепленное же в художественной структуре текста — оно оказывается абсолютным. Другими словами, ощущение того, что может быть на самом деле, а что нет, рождает сама жизнь (и это ощущение может меняться с течением времени), но поэтическим фактом (основой фантастики) это ощущение становится лишь в художественном тексте, и в нем оно абсолютно, потому что отграничено от исторически меняющейся реальности. Например, образ черта в древнерусской литературе носил не фантастический, а мифологический характер, к XX веку, как известно, он потерял свою «реальность» и стал фантастическим (и в этом качестве он оказался персонажем различных литературно-фантастических произведений), но новое фантастическое качество старого мифологического персонажа (обусловленное сменой мировоззренческой парадигмы) вовсе не превращает, скажем, древнерусскую повесть о путешествии архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим в фантастическое произведение (ибо в нем в силу абсолютного поэтического закрепления средневековой христианской нормы возможного-невозможного черт и для читателя XXI века, и даже для атеиста обладает безусловной реальностью и даже сверхреальностью).
Все это, как правило, не учитывается сторонниками взгляда на фантастику как всего лишь способ выражения идеи. И это опять-таки имеет весьма важные практические следствия. Вот еще один пример. Начиная с рубежа 80–90-х годов в нашей критике все чаще появляются работы, вновь отрицающие роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» — один из лучших в русской фантастике XX века. Одна из таких работ, рассматривающая булгаковский шедевр как «энциклопедию сатанизма» [18, 6], интересна для нас как раз попыткой доказать такую оценку романа читательской реакцией.
И. П. Карпов, автор статьи «Явное и тайное в романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита”, помещенной в учебном пособии «Новое о Булгакове», выделяет три типа читателей романа. Первый тип, по его мысли, представлен специалистами, исследователями романа, обладающими, как можно понять, как бы своеобразным иммунитетом, который исключает их из сферы непосредственной читательской реакции. О них речь не идет.
«Вторым типом читательского восприятия обладает простой читатель, непосвященный. Такой читатель может воспринять роман, всю его фантастику именно как фантастику, как сказку» [18, 147].
Можно сказать: ну и хорошо, читайте на здоровье, получайте удовольствие, ведь фантастику так и надо читать — как фантастику. Но, оказывается, такое непосредственное восприятие, по утверждению автора, отравляет душу: «Как красиво, увлеченно (и для себя, и для читателя) Маргарита мчится на встречу с дьяволом». Простодушный читатель может поверить в то, что это просто фантастическое, сказочное описание, вполне безобидное, но: «… по средневековым воззрениям, для участия в шабаше надо отречься от Бога, попрать Крест, возвести немыслимую хулу на Христа и Богоматерь…» [18, 48]. Стоит обратить внимание на это «но»: «средневековые воззрения» оказываются критерием оценки современного романа, а его фантастика — всего лишь сладкой, внешне безобидной оболочкой скрытого в тексте яда. И это понятно, ибо по логике автора, адекватно отражает нравственный пафос романа третий тип восприятия, носителем которого «является верующий православный человек, который ужаснется роману, посчитает его чтение грехом для себя» [18, 48].
Вот оно, полное торжество «намека» над «ложью», совершенно не учитывающее историческую динамику представлений о возможном-невозможном и их поэтическую статику (абсолютность) в конкретных художественных текстах. Но такое отношение к фантастике как к пустой оболочке, в которую можно поместить ту или иную идею, которая только и важна, искажает, подчеркнем еще раз, и саму эту идею. Так, И. П. Карпов, объясняя «греховность» булгаковского романа, приводит оценки «Мастера и Маргариты» некоторыми критиками:
— роман убеждает, что «сделаться избранницей дьявола — это величайшее благо и захватывающее наслаждение» (протоиерей Лев Лебедев);
— роман убеждает, что «союз с дьяволом гораздо привлекательнее, чем союз с Богом» (Михаил Дунаев) [18, 48].
Мне кажется, эти цитаты (и прежде всего с православной точки зрения) просто кощунственны: современный художественный роман в них, по сути дела, приравнивается к Евангелию, а скромные литературные персонажи — к Богу и дьяволу. Разве не кощунственно читать светский текст так же, как и Святое Писание? Безусловно, роман М. Булгакова имеет прямое отношение к христианской традиции, как, скажем, имеет прямое отношение к науке какой-нибудь научнофантастический роман (и вне учета этих традиций произведения не могут быть поняты). Но одно дело художественное отношение к той или иной нехудожественной традиции, другое дело — ее выражение за пределами искусства. Ведь в романе М. Булгакова «как только <…> инерция распределения реального-нереального устанавливается, начинается игра с читателем за счет перераспределения границ между этими сферами» [12, 159]. Обвинение автора «Мастера и Маргариты» в «сатанизме» вполне соотносимо с обвинением, к примеру, Р. Бредбери в ненаучности его «Марсианских хроник» (ведь Марс на самом деле существует, а Бредбери, играя, его изображает почему-то по-своему). Критики булгаковского романа не учитывают то, что В. Н. Захаров, воспользовавшись известным поэтическим образом, назвал «двойным бытием»: «Некоторые явления общественного сознания (например, тексты философско-религиозного, мистического или научного содержания, имеющие эстетическое значение) способны как бы к «двойному бытию» — условному (художественному) и безусловному (вне искусства). Эта позиция выражена в таком высказывании М. Горького: «… религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы» [8, 46].
Правда, высказывание М. Горького, думается, как раз противоречит отмеченной В. Н. Захаровым закономерности: М. Горький смешивает, путает условное и безусловное, поступая, хотя и с противоположных идеологических позиций, точно так же, как и цитировавшиеся критики-богословы: они художественное творчество рассматривали как религиозное, а Горький — наоборот; они фантастический роман читали как жизнь Христа, а Горький в этой жизни увидел фантастический роман6. И то, и другое есть проявление вульгарно-социологической методологии, причем в ее резком, можно сказать, рапповском выражении. Идейные позиции у названных выше критиков и у М. Горького, конечно, абсолютно различны, но логика мышления — та же самая, традиционно и ортодоксально соцреалистическая, предполагающая конечное знание «хорошего» и «плохого». А между тем большая литература всегда исходила из предположения о том, что «для нас было бы лучше, если бы мы не воображали, что знаем, каким должен стать мир» [22, 206].
Итак, мы посмотрели, что получается, когда «фантастику» противопоставляют «идее» (социологической, как в «Царевне-лягушке», научной — в НФ, религиозной — в «Мастере и Маргарите»). Получается уничтожение и «идеи», и «фантастики», то есть уничтожение художественного произведения7. Поэтому надо исходить, так сказать, из «презумпции фантастичности» фантастического текста (и фольклорного, и литературного), не смешивая при этом разные грани «двойного бытия» фантастики (в жизни и в искусстве).
Эстетическое восприятие фантастики подразумевает, таким образом, прежде всего осознание этой «презумпции фантастичности» (сказка — «ложь», мир осознанного читателем-слушателем вымысла, невозможного в действительности), то есть, попросту говоря, осознание того, что в фантастическом произведении главное — фантастика (при всей возможной общественной, политической, религиозной, научной ангажированности текста: уберите, к примеру, из сказок М. Салтыкова-Щедрина или из повестей М. Булгакова фантастику, и сразу же пропадет их очарование, они погаснут и, более того, ослабнет, если вообще не исчезнет их сатирическая направленность). Точнее, речь должна в данном случае идти даже не столько об осознании «презумпции фантастического», сколько об ее непосредственном переживании, ведь, по словам В. Вундта, «в душе субъекта размышление занимает тем меньшее место, чем глубже эстетическое действие произведения искусства» [5, 72–73].
Непосредственное чувство, возникающее, как уже говорилось, при таком непосредственном, «незаинтересованном» (в кантовском смысле слова) переживании, — чувство удовольствия.
Почему оно возникает? Причин тому много, но одна из них представляется весьма существенной. У читателя, эстетически воспринимающего фантастику, чувство удовольствия вызывает, как можно полагать, сам процесс вынесения реальности, так сказать, за скобки фантастического мира. Фантастика и особенно жанрово-обусловленная фантастика создают ситуацию «ухода от действительности». Об этой эскапистской функции и сказочной, и научной фантастики подробно и убедительно говорил в своем известном эссе о сказках Дж. Р. Толкиен, подчеркивая, что «одна из особенностей кардинальной болезни нашего времени состоит в том, что мы отчетливо сознаем и уродство наших дел, и зло их результатов; это осознание порождает стремление к избавлению, к бегству не от жизни, но от своего времени и от нами же порожденных страданий» [17, 292].
Конечно, на этом пути «всякому автору, не говоря уже о читателе современной фантастики, грозит одна постоянная опасность: затеряться в вымышленном мире — будущем, прошлом, гипотетическом, сказочном — все равно; и не найти обратной дороги в настоящее» [13, 10]. Недаром, существует тип читателя, полностью поглощенного миром фантастики и переносящего его в реальность (в некоторых резких проявлениях фэн-культуры). Однако, если исключить эти крайности возможного читательского «опьянения» жанром, осуществляемый фантастикой «уход от действительности» есть на самом деле не уход, а в о з в р а щ е н и е от сиюминутных форм человеческого общежития (и потому случайных, преходящих, хотя они всегда выставляют себя рассчитанными на века, если не на вечность) к действительно вечным («детским») основам жизни — то есть к идеалу, художественным носителем которого и является фантастика (фантастическое изображение становится идеальным выражением авторской позиции). Таким образом, возвращаясь к началу статьи, можно сказать, что «ложь» фантастики нисколько не противоречит «намеку», заключая его в самой себе, — и это единственный (но зато какой важный!) «урок», который она может преподать «доброму молодцу».
Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)
IS TALE A LIE?
Дата поступления: 21.02.2013