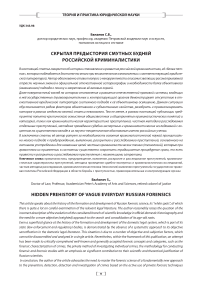Скрытая предыстория смутных будней российской криминалистики
Автор: Бажанов С.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 2 (55), 2019 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье говорится об истории становления и развития российской криминалистики, её «белых пятнах», которых наблюдается достаточно много при внимательном ознакомлении с соответствующей юридической литературой. Автор обоснованно ставит вопрос о некорректности описания эволюции рассматриваемой отрасли научных знаний в официальной отечественной историографии и необходимости более объективного (взвешенного) подхода к поиску и закреплению её вековых корней. Даже поверхностный взгляд на историю становления и развития отечественной правовой системы, входящих в неё государственных (правоохранительных и контролирующих) органов демонстрирует отсутствие в отечественной юридической литературе системного подхода к её объективному освящению. Данная ситуация обусловливается радом факторов объективного и субъективного свойства, разобрать и проанализировать которые в рамках отдельно взятой статьи невозможно. Тем не менее, в рамках настоящей публикации предпринята попытка критического осмысления общеизвестных и общепринятых криминалистических понятий и категорий, таких как криминалистическая характеристика преступлений, частная методика расследования отдельных преступлений, методика проведения судебно-экспертных и криминалистических исследований с акцентом на существенном вкладе в их научно-теоретическое обоснование именно российских ученых. В заключение статьи её автор ратует за необходимость освоения криминалистической наукой принципиально нового подхода к предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, основанного на активном употреблении для названных целей частных криминалистических техник (технологий), которые при грамотном их применении в состоянии существенно сократить традиционные процедурные сроки, то есть привести к раскрытию и расследованию преступления с наименьшими затратами.
Криминалистика, предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений, криминалистическая характеристика преступлений, методика проведения судебно-экспертных и криминалистических исследований, частная методика расследования, криминалистическая техника (технология) выявления преступлений, государственно-правовая политика российской федерации в области борьбы с преступностью, правоохранительные и контролирующие органы
Короткий адрес: https://sciup.org/14120300
IDR: 14120300 | УДК: 343.98
Текст научной статьи Скрытая предыстория смутных будней российской криминалистики
В научно-популярной литературе последних лет можно встретить суждения о том, что современное отношение к корректности хронологии исторических событий в любой области науки или общественной жизни, к сожалению, не приходиться считать уважительным [11, с.7].
Сказанное относится и к криминалистике, время зарождения которой в системе «российских координат» представляет особый интерес для развернутых «археологических раскопок».
Пристальный взгляд на историю становления и развития отечественной правовой системы, сформировавшихся в её недрах правоохранительных органов, а также присущих им методов профессиональной деятельности обнаруживает умственно воспринимаемый исход связанных с этим событий лишь с ХVIII – ХIХ вв. Отправным моментом здесь признается реформаторский почин Петра I, ознаменовавшийся полным неприятием древнерусского опыта политико-социального обустройства, в значительной мере отвергнутого к тому времени. Российская Империя превратилась в полицейское государство, «мирно» воспринявшее традиции «Старого Света», что, надо полагать, обусловливалось реальными, а не вымышленными последствиями войны 1812 г., гипертрофированно освященными в официальной отечественной историографии [5, с. 10].
По оценкам различных ученых человечество живет на планете Земля от десяти – сотен тысяч до нескольких миллионов лет. Однако вопрос о моменте возникновении криминалистики и её первопроходцах остаётся открытым. Бытует мнение, что до потопа, достаточно длительный период своего существования люди вообще жили без греха, преступности не ведали, вследствие чего до «полицейской техники» им не было никакого дела.
В свете изложенного, инициирование дотошных исследований на сей предмет лишь усугубляет проблему, ибо всякий энтузиаст, который сподобиться, вдруг, заняться ими, неминуемо столкнется с рядом сомнительных, говоря языком криминалистики, «исходных ситуаций». Одна из них сопряжена с уголовным процессом, возникшим, якобы, на заре рабовладельческого строя, и прошедшим впоследствии все этапы революционных преобразований в рамках общепринятой (марксистской) догмы о последовательном обновлении общественно-экономических формаций [21].
Что касается криминалистики,то повременных упоминаний о ней в документальных и литературных источниках особо не сохранилось. Надо полагать, они канули в Лету вследствие укоренившейся небрежности, а может быть преступной «аккуратности» никому не ведомых «архивариусов».
Вышесказанное и дало некоторым авторам право на выдвижение тезиса о том, будто бы труды советско-российских криминалистов всех аспектов представляемой ими науки не исчерпали [20, с. 3951], ибо не в полной мере освятили её богатейшую «родословную». В них подчеркивается лишь, что изначально она возникла как наука о практических средствах и методах расследования преступлений, основанных на положениях естественных и технических наук [15, с. 5].
Складывается впечатление, что несмотря на солидную школу доморощенных ученых, перечислять имена и регалии которых не хватило бы объема серьезной (по объему) научной статьи, их неоценимый вклад в эволюцию рассматриваемой отрасли научных знаний по умолчанию отходит в небытие, угнетая и без того неопределенный статус Российской Федерации как «страны невыученных уроков».
Нельзя не учитывать и того, что на протяжении обозримого периода своего существования Российское государство, попеременно меняя официальные «вывески», практически постоянно втягивалось в изнурительные войны, в силу чего криминалистическими изысками заниматься было и некому, и некогда. Исключение может составить лишь полевая криминалистика, наблюдения в части касающейся которой, наверное, были, как были и мысли. Однако запатентовать последние, или по-другому, «застолбить» авторство тогдашним «естествоиспытателям», видимо, не удавалось.
Именно поэтому в интерпретации хроникальных событий отечественной криминалистки так зримо довлеет заморское начало, проявляющее себя в труднопроизносимых фамилиях «авторитетов», в
Как цитировать статью: Бажанов С.В. Скрытая предыстория смутных будней российской криминалистики // Вестник Академии права и управления. 2019. № 2(55). с. 9–16
заимствованных ( оттудова ) словообразованиях, а равно в отдельных понятиях и категориях. В качестве примера можно привести хотя бы слово «след» (на французском языке – la trace), откуда произошло наименование одного из классических подразделов криминалистической техники – трасологии, тогда как логичнее, а главное – приятнее было бы использовать выражение «следология».
Оригинальной литературы по истории криминалистики, равно как и её переводных (адаптированных) изданий в распоряжении автора настоящей статьи не имеется, в силу чего приходится довольствоваться теми незначительными выкладками, которыми «кишит» на эту тему Интернет. Поклонники объективного отражения постулатов гуманитарной науки могут возразить в том смысле, что упомянутая выше «всемирная паутина» невероятно далека от правдивого изложения даже вполне очевидных фактов. Однако ветераны литературного фронта, а также знатоки издательского дела не дадут автору настоящей статьи соврать, поскольку и печатные (бумажные) репринты сплошь и рядом напичканы самыми невероятными фейками, особенно тогда, когда их авторы пытаются чересчур легковесно комментировать события многовековой давности.
Надо заметить, что в интернетовских обзорах мировой криминалистики никому неведомые сочинители используют терминологию крайне низкого сорта, представляющую собой конгломерат словообразований, почерпнутых из области криминологии, уголовного и, в равной мере, колхозного права, а лишь потом – криминалистики.
Согласно названному источнику, основателем криминалистики признаётся Ганс ГуставАдольф Гросс – «рядовой» следователь из Австрии – страны, где преступность особых хлопот правоохранителям никогда не доставляла. Работал он судебным следователем в Черновцах(«...что-то слышится родное...» – С.Б. ). Подготовил рекомендации по расследованию преступлений, легшие в основу его труда «Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции» (1893). Так и не получив докторской степени, он стал профессором уголовно - исполнительного права в местном университете (1897), перейдя в 1902 г. в Пражский университет, а вскорости – в университет провинциального Граца (1905), где благополучно закончил свои дни (1915).
Примерно в эти же предреволюционные годы в Российской Империи стала приумножаться преступность, а имевшийся опыт борьбы с ней уже не отвечал предъявлявшимся требованиям. Это объективировало социальный заказ на разработку продвинутых методов расследования, которые Р.А. Рейс назвал «научной полицией» («технической полицией», «техническими методами следственного производства»),
А. Вейнгардт – «уголовной тактикой», В. Штебер – «уголовной полицией», Г. Шнейкерт – «уголовной техникой», а упоминавшийся уже Г. Гросс – (собственно) «криминалистикой».
В русле этой «плодотворной» работы была предпринята попытка создания принципиально новой (типовой) схемы расследования преступлений, пригодной «для всех случаев жизни». Предполагалось, что путем последовательного расширения и уточнения её компонентов наука должна была снабдить субъектов поисково-познавательной деятельности достаточными знаниями и устойчивыми навыками, способными привести их к достижению «назначения уголовного судопроизводства».
С высоты современных научных веяний следует признать, что в подобном подходе пробивались первые «ростки» до конца не осмысленных представлений о криминалистической характеристике пре-ступлений(КХП), замышлявшейся учеными в качестве научной абстракции – системы сведений о типичных элементах видовых криминальных ситуаций, уголовно-релевантных связях между ними, а также особенностях механизма образования следов [19, с. 4].
Спустя годы, КХП стала трактоваться как инструмент, предназначенный по неполной совокупности имеющихся в распоряжении субъекта доказывания элементов с известной долей вероятности устанавливать недостающие.
Однако предпринятые впоследствии обобщения накопленного опыта каких-либо закономерностей (корреляций) в этом вопросе не выявили, что, в конечном итоге, и позволило профессору Р.С. Белкину заявить о том, что КХП возлагавшихся на неё надежд не оправдала, и, по сути, себя изжила [12, с. 223]. Надо заметить, что данная точка зрения разделялась не всеми.
При ознакомлении с литературой по истории криминалистки, поневоле испытываешь недоумение в связи с обнаруживаемыми то там, то тут вкраплениями явно сомнительной природы. Их суть сводится к тому, чтобы убедить читающую аудиторию в том, будто бы в основу научных изысканий первых отечественных криминалистов (Л.Е. Владимирова, И.Н. Якимова, В.И. Громова и др.) клались идеи иностранных авторов (практиков). В данном контексте наряду с Г. Гроссом, А. Вейнгардтом, Р. Рейсом упоминаются также: А. Берти-льон, Б.Л. Бразоль, Х. Вучетич, Р. Гейндль, Э. Локар, Ч. Ломброзо, С. Оттоленги, «одарившие», якобы, имперских местечковых специалистов новейшими приемами и способами расследования преступлений.
Несколько по-иному, но равно в навязчивой манере, подается информация, в частности, о С.Н. Трегубове, который в 1912 г. подготовил конспекты лекций, прочитанных затем швейцарским криминалистом, доктором химии, профессором Лозаннского университета Р.А. Рейсом группе высокопоставлен- ных судебных чиновников России. В их числе был С.М. Потапов– будущийлидер советской криминалистики.
В своих трудах названные и многие другие авторы (Н.С. Бокариус, С.А. Голунский, В.И. Громов, А.А. Захарьин, А.А. Поповицкий, С.М. Потапов, В.Л. Русец-кий, А.А. Сальков, П.С. Семеновский, Н.В. Терзиев, Б.М. Шавер, И.Н. Якимов) в той или иной степени выделяли методические рекомендации в самостоятельный раздел (учебного курса) криминалистики. При этом под методом расследования ими понимались допустимые законом, разработанные наукой и практикой, проверенные опытом приемы и способы исследования преступлений и обнаружения «виновников».
По ходу (и «объективности ради») «редакторы» научных трудов поименованных выше ученых, как бы исподволь, подводили поклонников этого «популярного жанра» к мысли о том, что западные криминалисты еще до опубликования трудов (того же В.И. Громова) «уже тогда» выделяли методические рекомендации в самостоятельный раздел криминалистической теории.
В справочниках П.П. Михеева, Н.Н. Семенова, подготовленных «на основе» работ Е. Анушат, А. Вейн-гардта, Г. Гросса, А. Ничефоро, C. Оттоленги, Р. Рейса, И.Н. Якимова, криминалистика подразделялась на три основных раздела: уголовную технику, уголовную тактику и методологию. Последний из них, по замыслу единомышленников, призван был обучать следователей правильному применению методов уголовной техники и тактики при производстве по конкретным уголовным делам.
В итоге заказанная «наглядная картинка» втемную подводила неискушенного исследователя к однозначному выводу о том, будто бы отечественная научная литература по криминалистике до 30-х гг. ХХ в. представляла собой конгломерат отчасти переводной, отчасти компилятивной, а в остальном – давно устаревшей «версии» мировых достижений в рассматриваемой области. Таким примитивным способом у российских «аборигенов» формировался комплекс неполноценности, затушёвывавший вопрос о плагиате, постановку и обострение которого никто почему-то не инициировал.
«Наметившееся» отставание советской криминалистики от потребностей практики и в последующие годы подавалось с упрямой оглядкой по сторонам. Аргументировалось оно непростой политической обстановкой в СССР, непримиримой борьбой с врагами народа, «орудовавшими в области права», «загонявшими», вследствие этого, криминалистику на «задворки истории». Подспудно нагнеталась неуёмная критика чуждых советскому строю воззрений буржуазных ученых, позиционировавших преступника как представителя враждебного класса, действовавшего в условиях жесткой идеологической борьбы. Таким образом, в условиях политизированной науки объективное восприятие криминалистики «самостийными пытливыми умами» было затруднительным, хотя некоторыми из них уже тогда высказывалось заслуживающее поддержки мнение о том, что единых методов и способов расследования преступлений, скорее всего, не существует. Целесообразна разработка лишь некоей совокупности общих принципов, которыми позволительно руководствоваться ученым-последователям при разработке частных криминалистических методик (Б.М. Шавер).
Перечисленные тенденции нашли отражение в работах М.Е. Евгеньева (1940), Б.Л. Зотова (1955), а несколько позже – А.В. Васильева, А.Н. Калиниченко и И.М. Лузгина, которые, следуя «традициям, заложенным зарубежными криминалистами», заостряли внимание на необходимости:
– строгого соблюдения последовательности в производстве неотложных и последующих следственных действий;
– понимания методики расследования как обособленного раздела криминалистики, состоящего из общих положений и частных (конкретных) методик.
Дальнейшая разработка криминалистической методики привела к включению в неё правовых основ, принципов организации, способов совершения преступлений, организационных мероприятий по их предотвращению, раскрытию и расследованию; криминалистических характеристик и классификаций, а равно представлений о периодизации этапов расследования (следственных ситуациях) и «обстановок вокруг уголовных дел».
В учебнике криминалистики (1952) констатировалось, что «Часть науки советской криминалистики, обобщающая опыт расследования отдельных видов преступлений, определяющая в строгом соответствии с требованиями советского уголовно-процессуального закона и специфическими особенностями каждой категории дел научные приемы и методы раскрытия, расследования и предупреждения этих преступлений, называется методикой расследования отдельных видов преступлений, или частной методикой» [14, с. 4].
В более поздних сочинениях на эту тему приведенная формулировка, за малыми исключениями, повторялась [16, с. 606]; её же придерживался профессор И.А. Возгрин [13, с. 3] и др.
В учебнике криминалистики (2009) составители главы 31, участие которых в ней строго не разделено, описывая общие положения методики расследования преступлений, утверждают, что начало исследованию этого раздела криминалистики в советской науке было положено И.Н. Якимовым (1925). Третья часть изданного им руководства по уголовной технике и тактике так и называлась: «Методология.
Применение методов уголовной техники и тактики к расследованию преступлений». И, несмотря на то, что составленная им «схема расследования преступлений» заимствовала схему расследования западноевропейского (хорошо, не южноафриканского – С.Б. ) криминалиста Ничефоро, претендующую на универсальность, данная работа сыграла свою положительную роль в дальнейшей теоретической разработке этого раздела науки [17, с. 560, 561].
Зациклившись на Ничефоро, автор настоящей статьи задумался: фамилия это или имя, родственное российскому Никифору или (в украинском просторечье) – Ничифору? Ответ обнаружился в Интернете: Альфредо Ничефоро – криминолог , антрополог школы Ч. Ломброзо, социолог , статист и криминалист , обучавшийся криминологии в Лозанне (Швейцария) и Брюсселе (Бельгия), а статистике – в университетах Неаполя и Рима.
Что российскому бомонду известно об Италии? – Четвертая экономика в Европе после Германии, Франции и Испании. Общественность будоражит преступность, главным образом, уличная («щипачи», «барсеточники»); об остальной её части ничего «такого» не слышно. Она если и существует, то в очень организованных формах, о методах борьбы с которыми дискутировать вслух не принято. Несмотря на это, ученый-энциклопедист А. Ничефоро сподобился-таки изобрести методику расследования преступлений, которую впоследствии «срисовали» советские криминалисты.
Методика расследования преступлений – последний (четвертый) раздел криминалистики, совершенствующийся вплоть до настоящего времени. Описание входящих в её структуру частных методик осуществляется по следующей «типовой» схеме:
– краткая криминологическая характеристика преступлений (по видам);
– краткая уголовно-правовая характеристика преступлений;
– развернутая криминалистическая характеристика преступлений (которая, как научная категория, вроде бы себя изжила);
– источники первичной информации о преступлении, увязываемые с типичными исходными ситуациями;
– типичные версии, выдвигаемые при планировании расследования;
– порядок производства неотложных и первоначальных следственных действий(которые многими авторами почему-то отождествляются);
– особенности (очередность) назначения и производства судебно-экспертных и криминалистических исследований.
При ближайшем рассмотрении любая частная методика расследования представляет собой алго- ритм действий субъекта доказывания в досудебных стадиях уголовного процесса, долженствующего преодолевать череду повторяющихся в определенной последовательности (одна за другой) следственных ситуаций. Принято полагать, что строгое соблюдение очерченного регламента в состоянии приводить следователя к успешному завершению расследования (с составлением обвинительного заключения), хотя оное нередко приостанавливается либо прекращается вовсе, в том числе по надуманным основаниям. Объясняется это тем, что следственным путем раскрывается лишь малая толика регистрируемых уголовно наказуемых деяний – 1,5-2,0% (за вычетом латентных), что актуализирует постановку вопроса о приемлемости некогда не состоявшейся функции расследования (в традиционном понимании), но не оправдывает факт отказа от неё в пользу так называемого уголовного преследования. В научно-исследовательском ракурсе такое «телодвижение» – крутой реверанс в бок.
Обсуждать суррогатную функцию уголовного преследования в данном случае и в данном контексте возможно лишь с «особым пристрастием», поскольку она:
– являет собой махровый анахронизм, заим-ствованный(как понятие) из «мрачной глубины веков»;
– подрывает на корню демократическую природу российского уголовного процесса (как идею).
Если раньше следователь, руководствуясь принципом всесторонности, полноты и объективности расследования, обязан был добывать любые сведения, становившиеся при их оценке обвинительными или оправдательными доказательствами, то теперь его поисково-познавательная деятельность приняла однобоко обвинительный уклон. Стало не ясно, кто в «новых» условиях обязан собирать «оправдательные доказательства» с намёком на потенциал профессиональных защитников, могущих, будто бы, налаживать оное в условиях адвокатского расследования (адвокатского уголовного преследования?). До этого, слава Богу, пока не дошло [8, с. 19-27].
В то же время, проповедуя для наук уголовноправового блока единую терминологию, частные методики расследования правильнее было бы называть частными методиками уголовного преследования, что провоцирует возникновение малопродуктивных, и в силу одного уже этого, бессмысленных дискуссий.
Что до частных криминалистических методик, то в их содержание целесообразнее бы включать не криминологические и уголовно-правовые характеристики преступлений, которые, в тесном смысле, не имеют к ним прямого отношения, и даже не криминалистические, а, вроде бы как, – оперативно-розыскные. Но и здесь обнаруживается незадача, поскольку оперативно-розыскное расследование, как известно, в предмет криминалистики не входит.
Поэтому в виду недостаточной научной проработанности «озвученной» проблемы и получается, что предварительное расследование, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих широкую географию, большое количество обвиняемых и эпизодов противоправной деятельности длится подчас годами и заканчивается ничем (например, по налоговым преступлениям) [6, с. 3-6]. Если сюда приплюсовать неизбежные долгосрочные судебные разбирательства становятся очевидными недоработки современной государственно-правовой политики Российской Федерации в области борьбы с преступностью. Статья 6.1 УПК РФ, регламентирующая нерегулируемый, выраженный оценочным понятием, «разумный срок», положения не спасает [7, с. 15-19].
Складывающаяся вокруг процессуальной деятельности следователей обстановка осложняется еще и тем, что многие ученые, рассуждая об организации расследовании преступлений, стали избегать выражения «раскрытие». Поначалу задумались над тем, какой термин – «раскрытие» или «расследование» – ставить впереди? Затем «обнажилась» проблема второго порядка: как толковать термин «раскрытие» с позиций оперативно-розыскного и уголовнопроцессуального права?
В первом случае особых трудностей не возникало; по сложившейся традиции преступление признавалось раскрытым с момента выявления и оперативно-розыскного документирования посредством сыскных доказательств факта преступления и лица, к нему причастного [4].
Во втором случае всё оказалось сложнее. По старой (советской) следственной практике преступление относилось к числу раскрытых с момента вынесения следователем постановления о привлечении в качестве обвиняемого (выставлялась карточка по форме № 2 на лицо, его совершившее) [18, с. 7,8].
Однако позднее в теории уголовно-процессуального право возобладало мнение о том, что преступление следует признавать раскрытым только после вступления обвинительного приговора суда в законную силу (презумпция невиновности; ст. 14 УПК РФ). С тех самых пор вопрос этот «повис в воздухе».
Так или иначе, но российские ученые не перестают удивлять своих и чужих коллег новейшими разработками методик проведения судебно-экспертных и криминалистических исследований в области биометрических данных человека, компьютерной информации, полиграфологии, одорологии и проч. Несмотря на их индивидуальную значимость, сами по себе эти методики далеко не всегда позволяют субъекту поисково-познавательной деятельности успешно оканчивать расследование. Самостоятельную ценность они приобретают лишь в тех нечастых случаях, когда проистекающие из них заключения (экспертов)
непосредственно устанавливают так называемый «главный факт». В других же преобладающих в следственной практике случаях, заключения экспертов, использовавших указанные методики, выступают в качестве «рядовых» доказательств в совокупности с другими, если, конечно, таковые в распоряжении субъекта доказывания имеются. Их оригинальность не превосходит обыденности, ибо они, если и приближают следователя к объективной истине, то окольно, с великой задержкой во времени. А это превращает любую частную криминалистическую методику в очередную научную мистификацию, не более.
Стало быть, комментируемые экспертные методики в познавательном аспекте науку, безусловно. обогащают, а в прикладном (потребителей) – «порабощают», поскольку всерьез удорожают продолжающееся и после приобщения к материалам уголовного дела заключений экспертов судопроизводство.
Перечисленные факторы актуализировались в конце ХХ – начале ХХI вв. на фоне обвальной дифференциации правоохранительных и контролирующих органов, вознамерившихся в одночасье обрести независимость, – тенденции нашедшей отражение, в частности, в Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [1].
Возобладавший в умах ученых «зуд реформаторства» трансформировался в спонтанное дробление некогда интегрированных в едином ведомстве подразделений и служб, неоднозначно переживших своё обновленческое обустройство впоследствии; достаточно вспомнить о судьбе налоговой полиции (2003).
Одновременно приумножились научные дискуссии о недопустимости совмещения в одном должностном лице разнородных функций, чего не избежал и статус следователя. Утвердилась точка зрения о том, будто бы его правовое положение сочетает в себе функцию уголовного преследования, по недоразумению отождествлявшуюся с функцией обвинения, с частично остававшейся в его распоряжении функцией защиты, и даже с функцией (окончательного) разрешения дела по существу (без направления в суд).
Но и этого оказалось мало. Многие энтузиасты начали выступать за необходимость назначения и проведения в ряде случаев, так называемых, независимых экспертиз, которые на поверку не всегда выполнялись добросовестно. Робкие возражения на этот счёт местами как раздавались, так и раздаются, в том числе и потому, что средняя их («коммерческих» экспертных исследований) стоимость в различных регионах Российской Федерации колеблется в пределах 300000 руб.
Подводя черту под приведенными соображениями, остаётся добавить, что криминалистические характеристики преступлений, методики проведения судебно-экспертных и криминалистических исследований, а также частные методики расследования, в теоретическом плане удовлетворяя потребности ученого сообщества, в прикладной плоскости далеко не всегда способствуют радикальному сокращению процессуальных сроков. Упование в них на то, что в каждом отдельном случае следователь наделяется правом на обращение к оперативно-розыскным органам за содействием, по сути, ничего не меняет.
В то же время при «вынашивании» частных криминалистических методик их разработчики не исключают того, что широкое использование в расследовании приемов и способов раскрытия отдельных видов преступлений может оказываться приемлемым и для других (смежных) частных методик, что обусловливает их трансформацию в методики родовые [9, с. 43-47].
Проблемы уголовно-процессуальной деятельности «на тонком плане» осложняются еще и тем, что ученые процессуалисты и криминалисты, а также официальные представители следственных органов, «вываливающие» на суд общественности (с экранов телевизоров) рабочие версии намечаемых расследований, сплошь и рядом трактуют преступление как событие, а не юридически значимый факт в форме деяния [3, с. 31-36]. Несмотря на то, что означенную терминологию («событие преступления») использует и законодатель, подобные толкования, как это не покажется парадоксальным, следует считать некорректными.
Вышесказанное свидетельствует о том, криминалистика последнего своего слова об эффективном предупреждении, выявлении и расследовании преступлений всё еще не сказала, хотя на горизонте российской науки очертания перспективных прикладных исследований на этот счет, вкупе с достижениями других наук уголовно-правового блока, просматриваются неплохо.
-
1. Легализация уголовной ответственности юридических лиц за отдельные виды преступлений, особенно экономической направленности. Данный институт применяется в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Китае и др. уже давно; считается, что угроза уголовного наказания способна повысить эффективность вневедомственного и внутриведомственного надзора (контроля), а также заинтересованность компетентных должностных лиц в соблюдении требований федеральных законов вопреки эгоистическим (корпоративным) интересам.
-
2. Разработка учеными криминалистами высококачественных частных техник (технологий) выявления и раскрытия преступлений, к числу которых навскидку можно было бы отнести:
– частные ЛСД-техники (технологии) [2, с. 2628];
– частные техники (технологии), предполагающие использование спутникового слежения (мониторинга) за поверхностью земли и находящимися на ней объектами с надлежащим программным обеспечением бортовых компьютеров;
– частные техники (технологии), позволяющие проявлять и фиксировать в наблюдаемом пространстве (с использованием технико-криминалистических средств, а также с учетом фактора времени) полную следовую картинку преступления, учитываемого по линии уголовного розыска (как запланированного, так и ситуационного, совершенного (бес-) контактным способом, с поправкой на возможные уловки по инсценировке, маскировке и проч.);
– частные оккультные техники (технологии), по поводу которых в периодической печати публикаций скопилось относительно немного; чего в них больше – безоговорочного неприятия, огульного охаивания или тупого высмеивания – сказать трудно (дебаты на эту тему оставим для закоренелых атеистов).
Предполагается, что внедрение аналоговых механизмов в российскую правоприменительную практику в состоянии оптимизировать порядок применения юридических санкций к субъектам различных секторов экономики, в том числе к кредитным организациям, замеченным в незаконном перемещении принадлежащих им активов за рубеж [10, с. 2431], а также активизировать возвращение преступно нажитых капиталов на родину их происхождения.
Но для начала ведущим отечественным экономистам пора разобраться с вопросом о том, является ли Банк России государственной организацией. Сторонники его автономности апеллируют к тому, что у мегарегулятора, мол, должны быть свои потаенные секреты. В таком случае не ясно, зачем вообще нужен вневедомственный, а в особенности, внутриведомственный (банковский) надзор и контроль?
Положительное решение данного вопроса в состоянии повысить качество работы федеральных органов власти по предупреждению преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности, причем не обязательно в уголовно-правовом порядке. Правило объективного вменения оказывается здесь весьма кстати. Банк России выдаёт лицензию, отзывает её; он же должен отвечать за неблагоприятные последствия в банковском секторе экономики принадлежащими ему активами («живым рублем»).
Судя по юридической литературе, активных научных подвижек, ориентированных на частные тех-ники(технологии) выявления и раскрытия преступлений, что-то не наблюдается. Не исключено, конечно, что они «зреют» в умах ученых, работающих в стенах закрытых научно-исследовательских учреждений и ревностно хранящих государственную тайну. Оно и понятно. Криминалистика считается наукой общественной. Тем не менее, она не обязана популяризировать присущие ей средства и методы среди процветающего и подрастающего поколения.
Основательное научное осмысленное, добросовестное теоретическое обоснование частных криминалистических техник (технологий) с поэтапным внедрением их в оперативно-розыскную и следственную практику способно:
-
– повысить эффективность поисково-познавательной деятельности её субъектов;
-
– нивелировать разрастание в (до-) судебных стадиях уголовного процесса высокоинтеллектуальной демагогии адвокатов;
-
– снизить остроту этико-эстетических переживаний либерально настроенной интеллигенции и
- обывателей по поводу моральной природы договоров «купли-продажи», заключаемых в сфере оперативно-розыскной деятельности.
Творческая эволюция любой социальной системы проистекает из обыденной созерцательности её передовых умов, изучающих явления окружающего мира сквозь призму догадок и элементарных процедурных решений. Игнорирование данного обстоятельства грозит вернуть людей в первородное состояние, когда основная их масса жила в пещерах, зажиточная часть – на деревьях (элитная – на фруктовых). Естественно при условии, что таковое «общежитие» в истории человечества вообще имело место быть.
Дедуктивный метод исследования, которым «грешит» криминалистика, оказывается здесь весьма востребованным.
Список литературы Скрытая предыстория смутных будней российской криминалистики
- Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
- Бажанов С.В. Предупреждение общественно-опасных деяний невменяемых // Законность. 1997. № 2.
- Бажанов С.В. Совершенствование понятийного аппарата стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Академии права и управления. 2012. № 29.
- SV Bazhanov Identification and investigation of the crimes of the Russian police: monograph. Germany: Palmarium Academic Publishing, 2014.
- Бажанов С.В. Прокурор как участник досудебных стадий уголовного процесса: монография. М.: Юрлитинформ, 2017.