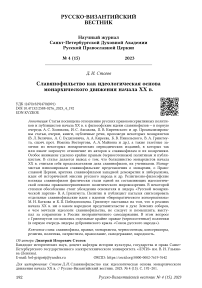Славянофильство как идеологическая основа монархического движения начала ХХ в
Автор: Стогов Д.И.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 (15), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена отношению русских правоконсервативных политиков и публицистов начала ХХ в. к философским идеям славянофилов - в первую очередь А. С. Хомякова, И. С. Аксакова, П. В. Киреевского и др. Проанализированы статьи, очерки, книги, публичные речи, проповеди некоторых монархистов (В. Л. Величко, А. С. Будиловича, А. А. Киреева, Б. В. Никольского, В. А. Грингмута, сщмч. прот. Иоанна Восторгова, А. А. Майкова и др.), а также газетные заметки из некоторых монархических периодических изданий, в которых так или иначе затронуто отношение их авторов к славянофилам и их воззрениям. Особое внимание уделено крайне правым (черносотенным) политикам и публицистам. В статье делается вывод о том, что большинство монархистов начала ХХ в. считали себя продолжателями дела славянофилов, их учениками. Монархистам импонировали славянофильские представления о монархии, о Православной Церкви, критика славянофилами западной демократии и либерализма, идеи об исторической миссии русского народа и др. Религиозно-философские взгляды славянофилов фактически стали одной из составляющих идеологической основы правоконсервативного политического мировоззрения. В некоторой степени обособленно стоят убеждения основателя и лидера «Русской монархической партии» В. А. Грингмута. Политик и публицист пытался синтезировать отдельные славянофильские идеи с идеями «бюрократического консерватизма» М. Н. Каткова и К. П. Победоносцева. Грингмут настаивал на том, что в реалиях начала ХХ в. ни о каком народном представительстве в духе Земских соборов, о чем мечтали идеологи славянофильства, не следует и помышлять; выступал за сохранение в России неограниченного самодержавия. В этом вопросе с Грингмутом согласились отдельные крайне правые (черносотенные) политики (в первую очередь лидеры дубровинского крыла «Союза русского народа»).
Славянофилы, правые, монархисты, черносотенцы, консерваторы, религия, политика, патриотизм, православие, самодержавие, народность
Короткий адрес: https://sciup.org/140301576
IDR: 140301576 | УДК: 1(470):329(470)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_4_192
Текст научной статьи Славянофильство как идеологическая основа монархического движения начала ХХ в
E-mail: ORCID:
Candidate of Sciences in History, Associate Professor of the Department of Culture history, state and law, Saint-Petersburg State Electrotechnical University “LETI”.
E-mail: ORCID:
Актуальность проблемы. В условиях современных реалий, когда российское общество находится в поиске национальной идеи, представляется весьма актуальным обращение к богатому славянофильскому наследию XIX в. Идеологи славянофильства (К. C. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин) и их более поздние последователи (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев) рассуждали об особенностях развития России, о различиях российского и западного обществ, о ведущей роли Православия в жизни русского народа, о самодержавии и соборности, об исторической миссии России. Идеи славянофилов о самобытном пути развития России, о противопоставлении России и Запада не теряют актуальности и сегодня, в условиях жесткого геополитического столкновения западной и русской цивилизаций.
Представляет научный интерес изучение трудов выдающихся правоконсервативных мыслителей начала ХХ в. (А. А. Киреева, В. Л. Величко, А. С. Вязигина, В. А. Грингмута, Б. В. Никольского, А. А. Майкова, священномученика протоиерея Иоанна Восторгова и др.), прежде всего, крайне правых (черносотенцев), многие из которых считали себя наследниками славянофилов.
Историография. О связи черносотенцев со славянофилами писали многие историки постперестроечного периода. В частности, историк С. А. Степанов указывал, что «черносотенцы провозглашали себя наследниками славянофилов». Они, по словам автора монографии, посвященной монархическому движению, «использовали славянофильские тезисы», противопоставляли Россию Западной Европе и Северной Америке1. Исследователь консерватизма А. В. Репников обращал внимание на то, что монархисты вслед за славянофилами не рассматривали крестьянские восстания и бунты как направленные против института неограниченной царской власти; эти нестроения, по его словам, были вызваны экономическими причинами и не имели целью получение политических прав и свобод2.
Историк А. Д. Степанов, анализируя «Русские речи» одного из видных монархистов, поэта и публициста В. Л. Величко, подчеркивал, что «мысли автора развиваются в русле славянофильской концепции государственного устройства»3. В нашей работе, посвященной черносотенцам, обращалось внимание на то, что в числе членов старейшей русской монархической организации начала ХХ в. — «Русского собрания» — было много славянофилов или тех, кто считал себя идейным последователем славянофильского учения. Среди них — публицист-славянофил генерал-контролер А. В. Васильев, В. Л. Величко, Б. В. Никольский и др.4 В нашей статье, посвященной преемственности поколений в истории русской консервативной мысли, приводятся некоторые факты, связанные с развитием монархистами славянофильских идей5. Исследователь М. Л. Размолодин в своей работе о консервативной сущности черной сотни, в частности, отмечал, что черносотенцы заимствовали «представления об отсутствии в России почвы для социальных конфликтов»6. Вслед за славянофилами русские монархисты начала ХХ в. считали, что «России суждено встать в центре мировой цивилизации и на основе православия предотвратить гибель Запада, пораженного секуляризмом и рационализмом»7; писали о легитимности царской власти8.
Тем не менее до настоящего времени отсутствовало какое бы то ни было комплексное исследование, посвященное взаимосвязи монархистов начала ХХ в. и славянофилов. Данная статья призвана отчасти восполнить этот существенный пробел. При этом мы умышленно не рассматриваем идеологию умеренно правых политических течений (в том числе «Всероссийского национального союза»), которые стоят особняком в правом политическом спектре. Напротив, в статье делается акцент на черносотенном движении и его идеологии. Также отметим, что в данной работе мы обходим стороной воззрения славянофилов и их последователей (монархистов начала ХХ в.) на реформы Петра I, т. к. этому вопросу посвящена другая наша статья, написанная в сентябре 2022 г. («Отношение к Петру Великому русских монархистов начала ХХ века»)9.
Россия и Запад. Центральный вопрос славянофильского учения — проблема противостояния России и Запада. Один из основателей славянофильства К. С. Аксаков, сравнивая западный политический строй с российским, указывал, что «в основании государства Западного: насилие, рабство и вражда», а «в основании государства Русского: добровольность, свобода и мир»10.
Представитель «позднего славянофильства» Н. Я. Данилевский полагал, что именно славянам, а не Западу «суждено разрешить общечеловеческую задачу»11.
Приват-доцент, впоследствии профессор римского права, с 1905 г. — один из лидеров крупнейшей черносотенной организации царской России, «Союза русского народа», член «Русского собрания» (с 1903 г.) Б. В. Никольский, солидаризируясь со своими предшественниками, славянофилами, записал в 1897 г. в дневнике: «Не Европу мы спасли (от татаро-монгольского нашествия. — Д. С. ), а себя спасли от Европы, благодаря татарам, — вечное им за то спасибо. Александр-то Невский тузил рыцарей, а не татар»12.
Стоит отметить, что мысли идеологов славянофильства и Б. В. Никольского, который считал себя продолжателем дела славянофилов, находят отражение в трудах представителей евразийства ХХ в. — как «классических» евразийцев 1920–1930-х гг., так и поздних, например, Л. Н. Гумилева. Последний прямо указывал, что «католикам было выгодно поднять русских против татар, чтобы вести войну на русской территории и русскими руками»13. Мыслитель отмечал, что «заинтересованы в гибели князей от рук татар были именно папские дипломаты», которые затем были готовы «расправиться с проклятыми „схизматиками“ и построить на Русской земле вторую Латинскую империю»14.
Известный последователь славянофилов, основатель «Русского собрания», поэт и публицист В. Л. Величко писал не только о принципиальных различиях в государственном устройстве России и западных стран, но и рассматривал различия в национальном характере русских и европейцев. В частности, он указывал, отмечая достоинства русских: «В противоположность западным насильникам и душевно холодным людям, русский человек по натуре добр и терпим: ненужных стеснений он никому причинять не станет»15.
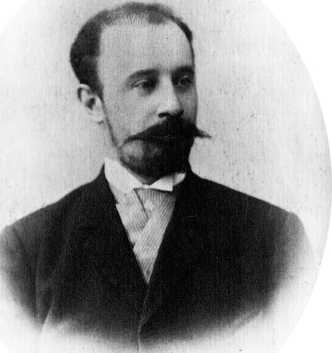
Василий Львович Величко
(1860–1903)
Следует отметить, что русские монархисты начала ХХ в. соглашались со славянофилами, которые подчеркивали самобытность славянского мира и его отличия от других «культурных миров» (сегодня мы сказали бы — «цивилизаций»). Так, популяризатор славянофильских идей, член «Русского собрания» и основатель «Русского окраинного общества» А. С. Будилович отмечал, что «бесспорным представляется и то учение славянофилов, по которому греко-славянство является столь же самобытным культурным миром, как Индия, Эллада, Европа»16.
В этой связи видится не случайным, что в «Русском собрании», своего рода интеллектуальном клубе русских монархистов начала ХХ в., неоднократно обсуждались доклады славянофильской тематики. Так, 10 октября 1914 г. Н. Н. Шипов прочитал доклад «Нужны ли славянофилы для раз- решения славянского вопроса», в котором представил предполагаемую картину послевоенного устройства Восточной Европы17.
А в начале 1915 г. прозвучали другие доклады славянофильской тематики: о культурной роли славян М. А. Лисицына и «Госу- дарственные воззрения славянофилов» М. И. Жукова18.
Между тем стоит заметить, что как славянофилы, так и их последователи
не ограничивались повальной критикой западной цивилизации. Как известно, сначала в трудах славянофила А. С. Хомякова19, а затем и Ф. М. Достоевского20 получи-
ла широкое распространение характеристика Европы как «страны святых чудес». Данное выражение использовали и некоторые монархисты начала ХХ в. Так, известный ученый-медиевист, профессор Харьковского университета, лидер Харьковского отдела «Русского собрания» и «Союза русского народа» А. С. Вязигин писал, что «нам нельзя поворачиваться спиной и к Западу — „стране святых чудес“, по выражению родоначальника нашего славянофильства А. С. Хомякова»21. По мнению профессора-монархиста, не нужно испытывать уныние по поводу того, что Россия в определенной степени утратила свои национальные особенности, заимствуя западный образ жизни. Публицист подчеркивал: «Наш великий народ не утратит своего облика и своей духовной самобытности, пока на земле будет звучать живая русская речь»22. А. С. Вязигин даже считал возможным во имя «братства всех народов» создание почвы, путем «дальнейшей разработки славянофильского учения», «для примирения умеренных западников с представителями широкого национализма»23.
В свою очередь, известный публицист, генерал, член «Союза русского народа»24 А. А. Киреев подверг критике представления идеолога позднего славянофильства К. Н. Леонтьева, который вслед за жесткой критикой западной цивилизации пытался отрицать и все прогрессивные достижения Запада. С этим мнением великого мыслителя генерал не смог согласиться. Он, в частности, писал: «…страх перед ложным прогрессом Запада загоняет Леонтьева слишком далеко»25.
Таким образом, русские монархисты начала ХХ в. в целом разделяли славянофильские представления о различиях между Россией и Западом. Впрочем, некоторые из них (в первую очередь, А. С. Вязигин, А. А. Киреев) подчеркивали, что отдельные достижения западной цивилизации (главным образом материальные) следует использовать в повседневности.

Андрей Сергеевич Вязигин (1867–1919)
Православие в жизни русского народа. Безусловно, учение славянофилов о роли Православной Церкви в жизни русского народа нашло воплощение в трудах их последователей, монархистов начала ХХ в. Так, А. С. Вязигин отмечал, что идеологи славянофильства были «покорными сынами св[ятой] Православной Церкви»26. Основатель и лидер черносотенной «Русской монархической партии», член «Русского собрания» В. А. Грингмут ставил в заслугу славянофилам то, что они «провозгласили истины церковные»27.
Председатель «Русской монархической партии», видный публицист и священнослужитель, священномученик протоиерей Иоанн Восторгов прямо указывал, связывая свои идеи со славянофильскими: «В духе и силе основоположников славянофильства и нам надлежит сказать русским людям: станьте на высоту ваших чистых православно-русских воззрений!»28 Священномученик указывал, что славянофилы внесли огромный вклад в дело «защиты наших духовных сокровищ», в том числе «православно-христианской церковности»29.
А. А. Киреев, в свою очередь, писал, что в «славянофильском катехизисе» содержится такой важный принцип, который был якобы выдуман «московскими варварами обскурантами», как «Церковь, носительница вероисповедных истин Православия»30.
Сравнивая воззрения идеолога славянофильства И. С. Аксакова и представителя известного политического течения

Священномученик протоиерей Иоанн Восторгов (1864–1918)
второй половины XIX в. — «бюрократического консерватизма», «охранитель-ства» — М. Н. Каткова, А. А. Киреев подчеркивал, что «Православная Церковь была их (и И. С. Акскова, и М. Н. Каткова. — Д. С. ) родина, столько же, сколько и сама Россия; отделять одну от другой они считали не только преступлением, но и грубой ошибкой»31. В другом очерке, развивая славянофильские идеи, генерал писал о том, что между Церковью и государством в России существует неразрывная связь, которую необходимо во что бы то ни стало сохранять. При этом Киреев утверждал, что Церковь в России «не выходит из своей сферы, не захватывает области государства»32. Генерал и публицист вслед за основателями славянофильского учения подчеркивал, что Православие следует понимать как «сумму всех этических взглядов народа»33
Таким образом, русские монархисты начала ХХ в. подчеркивали основополагающую роль Православной Церкви в жизни русского народа. Как отмечает известный историк монархического движения М. Л. Размолодин, «вслед за славянофи лами, правомонархисты считали, что России суждено встать в центре мировой цивилизации и на основе православия предотвратить гибель Запада, пораженного секуляризмом и рационализмом»34. С мнением исследователя невозможно не согласиться. Историк также обращает внимание на то, что черносотенцы рассматривали «православную религиозность» как фактор, который обеспечивает наличие у русских людей важнейших духовно-нравственных качеств (верность, взаимовыручка, жертвенность, терпение, соборность и др.), позволивших России выстоять и приумножиться в самые тяжелые годы испытаний, выдержать натиск многочисленных иноплеменников. В этой связи идеологи «Русского монархического союза» особо подчеркивали, что, пройдя «тяжелый исторический путь, не раз оказываясь на краю гибели, русский народ выработал в себе непреоборимую стойкость и крепость духа, готовность к перенесению невзгод и готовность к страданиям»35.
Самодержавие в жизни русского народа. Значительное место в трудах русских монархистов начала ХХ в., естественно, занимает учение о русской самодержавной монархии, истоки которого также следует во многом искать в работах славянофилов. В представлении идеологов славянофильства идеальный монарх — не тиран и не деспот, а рачительный Хозяин Земли Русской. Так, еще И. С. Аксаков подчеркивал: «Не бездушным, искусно сооруженным механизмом является власть в России, а с человеческою душою и сердцем… Нет, не рабами, по мысли и чувству народному,
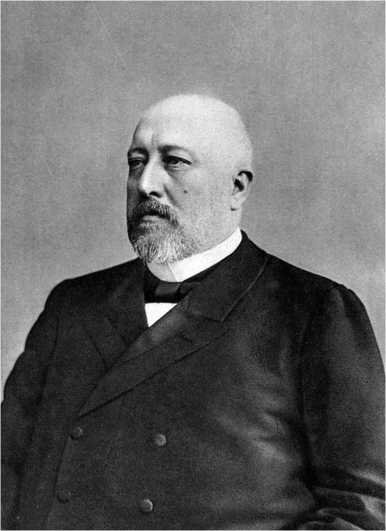
Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907)
властвует Русский Царь, а над свободными о Христе людьми Божиими, равно искупленными кровью Спасителя…»36
К. Н. Леонтьев (не считавший себя славянофилом) утверждал, что «славянофилы всегда стояли горой за самодержавие»37.
А. А. Киреев писал, что самодержавие является выражением политических взглядов русского народа38.
А. С. Вязигин уверял, что славянофилы «были убежденными верноподданными самодержавного Царя»39. Вслед за идеологами славянофильства публицист и политик полагал, что «настоящее, народное Самодержавие возможно сочетать с осуществлением начал действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова и печати, собраний и союзов»40. Отсюда Вя-зигин делал вывод, что участие «выборных людей» в деле государственного строительства не противоречит природе самодержавия, т. к. «Царь таким путем ставит своих чиновников под бдительный контроль народа, не поступаясь полнотой своей власти»41.
Иной точки зрения придерживался В. А. Грингмут. Он возмущался тем, что последователи славянофилов предлагали идею «Земского собора», в который вошли бы народные представители. Политик и публицист считал эту затею «наивной близорукостью» и высказывал опасение, что при реализации ее на практике «народную волю» в новом представительном органе власти будут выражать либералы вроде конституционных демократов Ф. И. Родичева или И. И. Петрункевича42. Другое дело, писал Грингмут, если бы монарх выбирал себе советников «своей самодержавной волей»43. Из всего сказанного идеолог монархизма делает следующий категоричный вывод: «Как земскому собору наших славянофилов, так и парламенту наших революционеров присуща одна и та же идея выборного народного представительства, которая… является в настоящее время совершенно несовместимой с принципом Неограниченного Самодержавия и неразрывного единения Самодержавного Царя с верноподданным ему народом. А за нерушимость этого принципа мы всегда стояли и будем стоять до конца»44.
На наш взгляд, в данном случае на политическое мировоззрение В. А. Грингму-та огромное влияние оказали представители «охранительства» второй половины XIX в. (в первую очередь М. Н. Катков и К. П. Победоносцев). На этот фактор указывал и сам публицист, называя Каткова «апостолом нашего национального евангелия» и отмечая, что он дополнил славянофильские идеи «великой истиной — го-сударственной»45. Так или иначе, Грингмут настаивал на том, что в реалиях начала ХХ в. ни о каком народном представительстве в духе Земских соборов не следует и помышлять, выступал за сохранение в России неограниченного самодержавия.
В этом вопросе с Грингмутом согласились некоторые крайне правые (черносотенные) политики (в первую очередь лидеры дубровинского крыла «Союза русского народа»). К примеру, член Главного совета «Союза русского народа» А. А. Майков, первоначально близкий к А. И. Дубровину (правда, впоследствии не вошедший во «Всероссийский Дубровинский Союз русского народа» и фактически отошедший от политики), писал: «Самодержавие царское установлено самим русским народом. Царская власть не происходит от завоевания, чем отличается от власти абсолютных монархов и восточных деспотов, а вручена царю русским народом, почему она и не представляет из себя господства, а занимает относительно народа служебное положение»46.
К. С. Аксаков писал об идеальных взаимоотношениях власти и народа: «Как должна власть смотреть на народ? Как на народ, который не покорен ею, но который сам признал ее, почувствовал ее необходимость, который, следовательно, не есть ее униженный раб, втайне мечтающий о бунте, но свободный подданный, благодарный за ее труды и друг неизменный. С обеих же сторон, так как не было принуждения, а было свободное соглашение, должна быть полная доверенность»47.
Подобного рода идеи в целом импонировали крайне правым политикам начала ХХ в. Они интерпретировали это высказывание К. С. Аксакова таким образом, что монархическая власть как проводник Божественной воли должна быть свободна от каких бы то ни было ограничений со стороны представительных органов власти48. Так, философ неославянофильского направления, член правомонархических «Кружка москвичей» и «Союза русских людей» Д. А. Хомяков (старший сын А. С. Хомякова) отмечал, что главное предназначение русского народа — жить на земле и в Боге, а не идти в политику с целью управлять и властвовать49. По утверждению М. Л. Раз-молодина, черносотенцы полагали, что «отношения между народом и монархом должны строиться только на нравственной основе взаимного доверия»50.
Подведем некоторые итоги. Большинство монархистов начала ХХ в. считали себя продолжателями дела своих учителей, идеологов славянофильского учения середины и конца XIX в. Монархисты в целом разделяли славянофильские представления о самодержавной монархии, о Православной Церкви, идеи о соборности и об исторической миссии русского народа. Также они присоединялись к критике со стороны славянофилов в адрес западной либеральной демократии. Можно сделать вывод о том, что правомонархические политики и публицисты считали славянофильство идеологической основой своих религиозно-философских и политических концепций.
Среди прочих особняком стоят воззрения лидера «Русской монархической партии» В. А. Грингмута, который попытался сочетать славянофильские идеи с соображениями представителей «бюрократического консерватизма», в первую очередь М. Н. Каткова. Мыслитель полагал, что в реальных условиях начала ХХ в. не следует даже думать о каком-либо «народном представительстве» в лице Земского собора, о котором грезили многие славянофилы и их последователи. С Грингмутом фактически согласились некоторые крайне правые (в первую очередь сторонники А. И. Дубровина, основателя и первого председателя «Союза русского народа»).
Список литературы Славянофильство как идеологическая основа монархического движения начала ХХ в
- Аксаков И. С. В день коронации Александра III // Русь. 1884. 15 марта.
- Аксаков К. С. О том же // Аксаков К. С. Полн. собр. соч. М.: Художественная литература, 1989. Т. 1. С. 16–23.
- Аксаков К. С. Об основных началах русской истории // Аксаков К. С. Полн. собр. соч. Константина Сергеевича Аксакова. 2‑е изд., доп. / Под ред. И. С. Аксакова. М.: Унив. Тип., 1889. Т. 1. Соч. исторические. 652 с.
- Будилович А. С. Славянское единство / Сост., предисл. и примеч. Ю. В. Климакова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. 784 с.
- Величко В. Л. Русские речи / Сост. предисл. и коммент. А. Д. Степанов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 400 с.
- Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма / Сост. и коммент. А. Д. Каплин и А. Д. Степанов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 400 с.
- Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские! / Сост. А. Д. Степанов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 544 с.
- Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль, 1993. 783 с.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Составление и комментарии Ю. А. Белов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 816 с.
- Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. СПб.: Наука, 1995. Т. 14. 783 с.
- Киреев А. А. Дневник. 1905–1910 гг. / Сост. К. А. Соловьев. М.: РОССПЭН, 2010. 472 с.
- Киреев А. А. Учение славянофилов / Сост. С. В. Лебедев, Т. В. Линицкая, предисл. и коммент. С. В. Лебедев, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2012. 640 с.
- Кирьянов Ю. И. Русское собрание. 1900–1917. М.: РОССПЭН, 2003. 352 с.
- Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России / Сост., вступит. ст., указ. имен и коммент. А. В. Белов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 1232 с.
- Майков А. А. Революционеры и черносотенцы. СПб.: Отечественная тип., 1907. 44 с.
- Никольский Б. В. Сокрушить крамолу / Сост., предисл. и примеч. Д. И. Стогов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 464 с.
- Размолодин М. Л. О консервативной сущности черной сотни. Монография. 2‑е издание, доп. и перераб. / Под ред. Ю. Ю. Иерусалимского. Ярославль: Нюанс, 2012. 388 с.
- Репников А. В. Консервативная концепция российской государственности [Монография]. М.: СигналЪ, 1999. 161 с.
- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1006 (Б. В. Никольский). Оп. 1. Д. 1.
- Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа / Сост., вступ. и биогр. стт., комм. А. Д. Степанов, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. 1136 с.
- Степанов С. А. Черная сотня: что они сделали для величия России. М.: Яуза-пресс, 2013. 671 с.
- Стогов Д. И. Отношение к Петру Великому русских монархистов начала ХХ в. // Русско-Византийский вестник. 2023. № 1 (12). С. 158–173.
- Стогов Д. И. Славянофильство и черносотенство: взаимосвязь поколений русских мыслителей XIX — начала ХХ в. // Информация — Коммуникация — Общество (ИКО‑2013). Материалы X Всеросс. науч. конф. Санкт-Петербург,
- 24–25 января 2013 г. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. С. 158–160.
- Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за великую Россию / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2012. 672 с.
- Хомяков Д. А. Православие, самодержавие, народность. Минск: Беларуская грамата, 1997. 208 с.
- Шипов Н. Н. Нужны ли славянофилы для разрешения славянского вопроса. Пг.: Отечественная тип., 1915. 58 с.