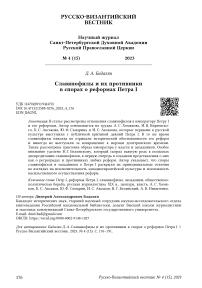Славянофилы и их противники в спорах о реформах Петра I
Автор: Бадалян Дмитрий Александрович
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 (15), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены отношения славянофилов к императору Петру I и его реформам. Автор основывается на трудах А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова, которые первыми в русской культуре выступили с публичной критикой деяний Петра I. В то же время славянофилы никогда не отрицали исторической обоснованности его реформ и никогда не выступали за возвращение к нормам допетровского времени. Также рассмотрена трактовка образа императора у власти и западников. Особое внимание уделено В. Г. Белинскому, который сыграл важную роль в попытках дискредитации славянофилов, в первую очередь в создании представления о них как о ретроградах и противниках любых реформ. Автор указывает, что споры славянофилов и западников о Петре I раскрыли их принципиальные отличия во взглядах на исключительность западноевропейской культуры и возможность насильственного осуществления реформ.
Петр i, реформы петра i, славянофилы, западники, общественнополитическая борьба, русская журналистика xix в, цензура, власть, а. с. хомяков, к. с. аксаков, ю. ф. самарин, и. с. аксаков, в. г. белинский, а. в. никитенко
Короткий адрес: https://sciup.org/140301575
IDR: 140301575 | УДК: 1(470)(091):94(470) | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_4_176
Текст научной статьи Славянофилы и их противники в спорах о реформах Петра I
Вопрос об отношении славянофилов к петровским реформам и к самому императору-реформатору, как это ни удивительно, был впервые поднят, когда еще не только не существовало термина «славянофильство», но и ни один из будущих де- ятелей этого направления не сделал насчет Петра I никаких публичных заявлений. Такую парадоксальную ситуацию создал П. Я. Чаадаев, когда на рубеже 1836–1837 гг. в «Апологии сумасшедшего» пересказывал, как он полагал, учение «новой школы»: «Больше не нужно Запада, надо разрушить создание Петра Великого, надо снова уйти в пустыню». И тут же Чаадаев с осуждением представлял самих сторонников этой славянофильской «школы»: «Забыв о том, что сделал для нас Запад, не зная благодарности к великому человеку, который нас цивилизовал, и к Европе, которая нас обучила, они отвергают и Европу, и великого человека, и в пылу увлечения этот новоиспеченный патриотизм уже спешит провозгласить нас любимыми детьми Востока»1.
Однако отношение славянофилов к деяниям первого русского императора не было настолько вульгарно-упрощенным, чтобы трактовать его в примитивных категориях как «плохое» или «хорошее» (к чему и сегодня склоняются некоторые исследовате-
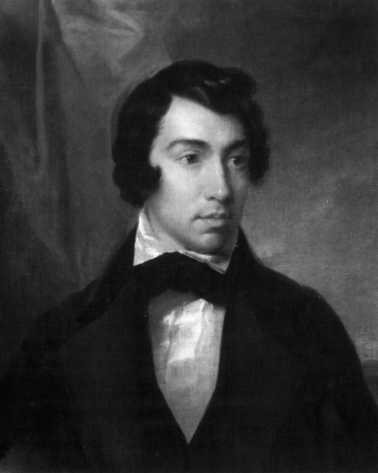
Алексей Степанович Хомяков (1804–1860).
Автопортрет, 1836 г.
ли2). Это видно уже по одной из первых славянофильских работ, статье А. С. Хомяков «О старом и новом», подготовленной (но не опубликованной) на рубеже 1830–1840 гг. Ее автор создал такой образ первого российского императора: «…воля железная, ум необычайный, но обращенный только в одну сторону, человек, для которого мы не находим ни достаточно похвал, ни достаточно упреков, но о котором потомство вспомнит только с благодарностью, — является Петр»3.
В подобной же диалектичной манере судил о деяниях царя-реформатора и И. В. Киреевский. Так, в 1832 г. в статье «XIX век» он заявил: «…благоденствие наше зависит от нашего просвещения, а им обязаны мы Петру». И далее он продолжал свою мысль: «Потому будем осмотрительны, когда речь идет о преобразовании, им совершенном. Не позабудем, что судить об нем легкомысленно — есть дело неблагодарности и невежества; не позабудем, что те, которые осуждают его, не столь часто увлекаются ложною системою, сколько под нею скрывают свою корыстную ненависть к просвещению и его благодетельным последствиям»4. Правда, это мнение еще не сформировавшегося славянофила, а 25-летнего литератора, который только-только создал журнал с говорящим названием «Европеец». Однако ему не противоречат и суждения, высказанные И. В. Киреевским в 1855 г. незадолго до его кончины: «Произошел тяжелый переворот Петра. <…> Но сердце России не изменилось, и народ ее живет еще прежним духом. Потому и образованность чужеземная может и для спасения России должна переработаться в ней согласно ее основному началу»5 (здесь и далее выделено авторами цитат. — Д. Б.).
Наибольшим антагонистом петровских реформ среди славянофилов чаще всего видят К. С. Аксакова6, который в 1845–1846 гг. в диссертации «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» рассматривал противостояние Петра I и прежней Руси стрельцов и староверов как борьбу двух односторонних начал. Он объяснял: «Односторонность есть рычаг истории. <…> Петр должен был начать с отрицания совершенно полного; и если национальность в тот момент явилась перед ним, как одна сторона, то и он, как одна сторона, односторонне должен был сначала восстать на нее»7.
В петровских реформах К. Аксаков видел «дело отрицания чистого, но необходимого, не мертвого, а плодотворного в общем раз-витии»8. Описывая петербургский период как время «полной подражательности иностранному», он утверждал: «Ни один народ не отваживался на такое решительное, совершенное, строгое отрицание своей наци-
ЛОМОНОСОВ!»
D ВЪ ИСТОРШ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКАГО ЯЗЫКА.
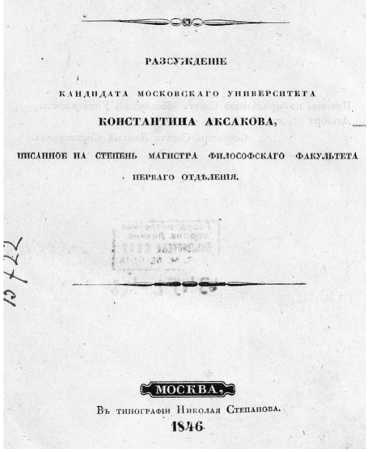
Титульный лист диссертации Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860) о Ломоносове 1846 г.
ональности, и потому ни один народ не может иметь такого общего, всемирночеловеческого значения, как русский»9.
Однако вернемся к Чаадаеву, который в 1836–1837 гг., говоря о славянофилах, не просто сгустил краски, но, как мы могли заметить, исказил суть их будущих, еще не высказанных в печати идей. Стоит отметить, что автор «Философических писем» видел в Петре I великого, «изумительного человека»10, являвшегося «мощным выразителем своей страны и своей эпохи»11, тем не менее он не пытался обожествлять первого русского императора, наделять его личность какими-либо сакральными каче-
ствами. Между тем к 1830–1840-м гг. в России сложилась прочная традиция не только почитания или глорификации Петра I, а именно его обоготворения. К примеру,
М. В. Ломоносов в 1743 г. устами Марса восклицал: «Он Бог, он Бог твой был, Россия, <…> Сошед к тебе от горьних мест»12, а в 1755 г. заявил: «…ежели человека, Богу по-добнаго, по нашему понятию, найти надобно, кроме Петра Великого не обретаю»13. В 1810 г. князь С. А. Ширинский-Шихматов (будущий иеромонах Аникита) в «лирическом песнопении» «Петр Великий» назвал заглавного героя «Земное россов боже-ство»14. Даже М. П. Погодин в 1830 г. славил «Божественного Петра , который в глухой стене России прорубил широкое окно в Европу, Петербург»15. И если в 1838 г. А. В. Никитенко, рассуждая о первом русском императоре, высказался немного сдержаннее: «Это уже не монарх-повелитель: это Божий посланник»16, то спустя три года В. Г. Белинский обратился к наивысшей степени пафоса. Вначале своей статьи <Россия до Петра Великого> он заявил, что Петр I — «божество, воззвавшее нас к жизни»17, а завершил ее риторическим вопросом: «…кто же более нашего Петра имеет право на титло великого и божественного <…>?..»18
Для славянофилов, не разделявших представлений о Божественном установлении власти (источником ее они считали народ19), такое отношение к монарху было неприемлемо. Так, К. С. Аксаков в апреле 1848 г. в неопубликованной статье «Голос из Москвы», напомнив библейскую заповедь «Не сотвори себе кумира», утверждал: «Запад сотворил себе кумира из Правительства, обоготворил его и поклонился перед ним». Поясняя эту мысль, он рассуждал: «Запад поверил в совершенство Правительства или, лучше, в возможность его совершенства, и отсюда необходимо возникла революция как грешный путь к земному невозможному совершенству. Революция есть необходимое следствие рабского чувства перед Правительством, следствие обожания его, веры в его совершенство»20. Продолжение такого хода мыслей встречается в относящемся к тому же 1848 г. письме К. Аксакова к А. Н. Попову: «В Русской истории находим мы одну революцию: это Петр Великий, явление антинародное, явление Западное вместе»21. Автор имел в виду то, что, начиная с Петра I, правительство «стало изъявлять притязания решать все задачи жизни, вмешалось в Русский быт». Результатом этого оказалось то, что «Часть России, увлекшись Западом, ту же минуту поклонилась пред Правительством, как перед кумиром, — и ту же минуту начались революционные попытки»22.
Иным образом, обращаясь уже к конкретным примерам, но в том же русле мыслил И. С. Аксаков, когда 31 марта 1865 г. в письме к М. Ф. Де-Пуле рассуждал по поводу проповеди Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского, ныне почитаемого как святителя: «Пушкин воспел в чудных стихах петербургское самодержавие с маневрами („Медн[ый] всадник“); Иннокентий сравнил Фавор с императорским троном, Николая Павловича с Моисеем, провел параллель между Царством Небесным и императорским двором, между херувимами и камергерами, ангелами и камер-юнкерами и т. д. — Вообще наши духовные витии смотрят на превознесение царской власти в своих проповедях как на необходимую принадлежность высшего слога. Но в этом великое зло»23.
В такой ситуации гораздо ближе к власти находился Белинский. И характерно, что в статье <Россия до Петра Великого> он именовал своих оппонентов, еще не получивших от него кличку «славянофилы»24, «защитниками патриархальных нравов против цивилизованных», «старообрядцами и антиевропейцами», «защитниками варварской старины нашей»25. Именно им, славянофилам, он и противопоставлял монарха, водворившего в России европейские обычаи. Однако в этом Неистовый Виссарион следовал не Чаадаеву (который не опубликовал и не мог опубликовать ни одного своего выпада против славянофилов), а установкам на их дискредитацию, заданным III отделением, через его любимого гимназического учителя М. М. Попова, в то время служившего чиновником по особым поручениям этого учреждения26.
Борьба III отделения со славянофилами приобрела более решительный характер после того, как в 1845–1847 гг. они выказали себя целой серией периодических изданий27 и стали готовиться к выпуску журнала «Русский вестник», который должен был возглавить Ф. В. Чижов28. Чтобы помешать им, III отделение заявило о связях москвичей с действовавшим в Малороссии тайным Кирилло-Мефодиевским обществом, которое в докладах императору называлось «Славянским», а его участники и связанные с ними лица — «славянистами» или «славянофилами». Однако доказать причастность московских славянофилов к преступным замыслам не удалось, и арестованного было по этому делу Ф. В. Чижова освободили (предписание о его аресте было дано 24 марта, а арестован он был 6 мая 1847 г.29). Тем не менее Чижову запретили проживать в обеих столицах и издавать журнал. За ним, как и за еще одним участником славянофильских изданий киевлянином Н. А. Ригельманом, учредили негласный надзор. Еще ранее под такой же надзор попали А. С. Хомяков и А. М. Языков именно потому, что вели переписку о журнале30. Так были разрушены планы на издание нового славянофильского издания. Одновременно с этим III отделение начало в прессе очередную кампанию по дискредитации «московской партии». В частности, дало указания издателю «Отечественных записок» А. А. Краевскому об «опровержении славянофильских бредней» (7 мая об этом было доложено императору31). Этой цели послужили сразу две едкие рецензии в майском номере журнала: на «Московский литературный и ученый сборник на 1847 год» и на «Путешествие в Черногорию» историка А. Н. Попова.
Вероятно, не случайно, что незадолго до того, в начале 1847 г., продолжил борьбу со славянофильством Белинский, к тому времени ставший сотрудником журнала «Современник». И опять, чтобы выставить славянофилов в самом худшем свете, он решил представить их противниками петровских преобразований. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» критик с пафосом восклицал: «Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала меж-доумками? И неужели они правы, говоря, что нам надо воротиться к общественному устройству и нравам времен не то баснословного Гостомысла, не то царя Алексея Михайловича (насчет этого сами господа славянофилы еще не условились между собою)?..»32
Сентенции Белинского против «московской партии» вызвали возражения Ю. Ф. Самарина, который со страниц «Москвитянина» вскоре заявил: «Система спора, принятая критиком в отношении к славянофилам, так удобна, что действительно трудно от нее отказаться. Обыкновенно он навязывает им то, чего они никогда не говорили, а потом опровергает их тем, что они первые сказали»33.
В заключение статьи, резюмируя свои рассуждения, Самарин привел ряд тезисов Белинского, некоторые из которых славянофилы «первые пустили в ход, а других никогда не думали отвергать»:
«Россия изжила эпоху преобразования, и для нее настало время развиваться самобытно, из самой себя.
Миновать эпоху преобразования, перескочить за нее нельзя.
Реформа Петра не могла быть случайна.
Пора нам перестать казаться и начать быть ; пора уважать и любить только человеческое и отвергать все, в чем нет человеческого, будь оно европейское или азиатское.
Крепкое политическое и государственное устройство есть ручательство за внутреннюю силу народа.
Смирение и любовь суть свойства человеческой натуры вообще»34.
Казалось бы, после таких уверенных опровержений обвинения, обрушенные на славянофилов их противниками, должны были предстать, по меньшей мере, как недоразумение. Но нет. Доводы, выдвинутые Самариным, привели лишь к тому, что Белинский, продолжая противостояние с «московской партией», остерегался так же прямолинейно, как прежде, называть своих оппонентов «защитниками варварской старины» и реже обращался к примеру Петра I. Теперь он стал больше уделять внима- ния саркастическим нападкам на личности славянофилов, включая их неформального лидера, А. С. Хомякова35.
Тем не менее в рецензии на «Московский литературный и ученый сборник на 1847 год» (законченной до 5 мая 1847 г., когда автор отправился за границу) Белинский снова вспомнил о царе-реформаторе и заявил, что Хомяков «самыми черными красками изображает искусственность, рассудочное развитие, поддельность, апатию, скуку, мертвенность русского общества и приписывает это состояние разрыву общества с народом, происшедшему вследствие реформы Петра». Критик, назвав этот разрыв «самым неумеренным преувеличением», утверждал, что он «уничтожится со временем успехами цивилизации, которая народ возвысит до общества»36. Увы, сегодня приходится констатировать, что никакие «успехи цивилизации» не уничтожили этот разрыв. Спустя 70 лет он только увеличился. Именно на основании трагического разделения общества, народа и власти оказалась возможна катастрофа Революции и Гражданская война. Причем творцами этой катастрофы явились именно те, кто считал себя вправе «возвысить» народ до себя и своих идей.
Таким образом, представления о славянофилах и их отношении к Петру I были не только грубо искажены и мифологизированы, но и использовались противниками «московской партии» как безотказный
ГОК0ВШ1
ЛИТЕРАТУРНЫЙ II УЧЕНЫЙ евошпъ
1847 w-
И. С. Аксаков*.— II. В. Берга.—К. П. Л. Вязеискаго.—10. В.
Ж*,«опекой.—В. Л. Жуковскаго.—Г-н* Мирека.— И. М. Карам- j«*«.—К. Л. Косеоинча. — К. К. Павловой. —М. П. Погодин*.—Я. Подоискаго. —А. II. Попои*.—II. Л. Ригедьмаиа,—С. М. Соловьева.— С.—И. И. Срсэнсискаго. — Л. С- Хомяков*. — О. В. Чижов*.—
МОСКВА.
ВЪ ТНП0ГГЛФ1И свивил.
I $47.
Титульный лист «Московского литературного и ученого сборника на 1847 год»
инструмент борьбы с нею. В сознание общества внедрялся стереотип: славянофилы — противники реформ Петра I, а значит — и враги просвещения.
Особая активность и изобретательность в этой борьбе Белинского, а главное — синхронность его действий с мерами, направленными на дискредитацию славянофилов, осуществленными III отделением, позволяют полагать, что и эти шаги критика были сделаны по подсказке М. М. Попова.
Мнения, распространяемые о славянофилах Белинским, с готовностью подхватывало его окружение, а затем — заметная часть образованного общества. Так, А. В. Никитенко, в недавнем прошлом официальный редактор «Современника», произведения которого являлись объектом критики К. Аксакова и Ю. Самарина, писал в своем дневник 20 декабря 1848 г.: «Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства, и уверяющий, что Россия столь благословенна Богом, что проживет одним православием, без науки и искусства. Патриоты этого рода не имеют понятия об истории и полагают, что Франция объявила себя республикой, а Германия бунтует оттого, что есть на свете физика, химия, астрономия, поэзия, живопись и т. д. Они точно не знают, какою вонью пропахла православная Византия, хотя в ней наука и искусства были в страшном упадке. Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не менее, чем во времена раскольничьих и стрелецких бунтов. Только прежде они не смели выползать из своих темных нор, куда загнало их правительство, поощрявшее просвещение. Теперь же все подпольные, подземные, болотные гады выползли, услышав, что просвещение застывает, цепенеет, разлагается…»37
То, что под отвергающим европейское просвещение православным патриотизмом Никитенко подразумевал в первую очередь славянофильство, становится видно из другой его дневниковой записи, сделанной тремя месяцами позднее, 26 марта 1849 г. В ней он ясно констатировал, что «партии славянофилов» противостоит «партия европейских людей, послепетровских, которые опираются на общечеловеческие идеи, на идеи науки и искусства»38.
Весьма показательно, что столь ясные «чаадаевские» антитезы, как «патриотизм — Европа», «православие — общечеловеческие идеи», сопровождаемые недвусмысленным маркером «невежество — просвещение», появляются у Никитенко лишь в его непредназначенном к публикации дневнике. В «Похвальном слове Петру Великому», произнесенном и опубликованном Никитенко в марте 1838 г. складывается другая картина. В нем автор старательно акцентировал устремления первого российского императора «ввести Россию в систему европейских государств», ведь, как полагал Никитенко, иначе нельзя было «доставить ей почетное место в кругу народов образо-ванных»39. В своих рассуждениях о Петре I он восемь раз использовал слово «Европа», четыре — слово «просвещение» (и еще дважды — производные от него), но ни разу не упомянул о том, как понимается просвещение в христианстве. Более того, он вообще не воспользовался словами «христианство» и «православие», вероятно, по его представлениям, не имеющим прямого отношения к подлинному просвещению.
Тем не менее Никитенко не зря вспомнил в дневнике об усилиях правительства. Его представления о Петре I, точнее их публично высказанная версия, не противоречили тем концептуальным положениям, которые предлагали тогда власти40 и сам монарх.
К примеру, в 1831 г. запрещая публикацию стихотворной трагедии М. П. Погодина «Петр I», Николай I так объяснил свое решение: «Лице императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви; выводить оное на сцену было бы почти нарушением святыни, а по сему совершенно неприлично», а в общении о том же с В. А. Жуковским он выразился еще категоричнее: «Память Петра I священна»41. Позднее же, весной 1848 г., в разговоре с бароном М. А. Корфом о цензуре и журналистике император отметил: «Больше всего мне досадны глупые возгласы против Петра Великого; досадно, когда и говорят, а теперь тем больше нестерпимо, когда печатают. Петр Великой сделал, что мог, и даже более, чем мог, и вправе ли мы теперь, при таком отдалении от той эпохи и в нашем незнании тогдашних обстоятельств, критиковать его действия и унижать его славу и славу самой России!»42
Из этого, однако, не следует, что только «в Николаевскую эпоху поклонение Петру Великому в Российской империи приобрело характер официального культа»43. Как мы уже показали, культ первого императора складывался на протяжении десятилетий еще с XVIII в. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что такой культ взрастал на естественном для человека XVIII–XIX вв. основании почитания любого правящего монарха. К примеру, С. А. Ширинский-Шихматов, посвящая своего «Петра Великого» Александру I, обращался в начале книги к нему со словами «…к стопам ТВОИМ священным»44. Иначе говоря: отношение к правящему государю как к сакральной особе в России Нового времени было обычным делом, а к уже покойному Петру I — незыблемым правилом.
Если власть видела в Петре I символ современной ей государственности, то для западников, особенно в ситуации острой полемики, император-реформатор служил символом европеизации русской культуры. На это еще в 1903 г. указал А. А. Кизеветтер, предложив рассмотреть споры западников и славянофилов вокруг петровских реформ, через противостояние двух символов этих партий — «Петра» и «Москвы»45. Символ же по самой природе своей не допускает амбивалентности и противоречий. И пока власть и западники продолжали исповедовать исключительно такой подходы, риторика славянофилов не могла быть ими воспринята.
Следствием такого положения являлся не только отказ от критики, но и самые серьезные трудности для научного осмысления деятельности Петра I46. Первым, кто позволил себе отойти от этой традиции, был Н. М Карамзин в «Записке о древней и новой России» 1811 г. Но она предназначалась лишь для двух читателей — Александра I и его сестры, великой княгини Екатерины Павловны. К тому же историк, критически рассматривая некоторые деяния Петра I, в целом не переставал видеть в нем образец для подражания. Так, отстаивая мысль о том, что «законы народа должны быть извлечены из собственных его понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств», Карамзин сослался на авторитет Петра I, который, по его словам, «любил иностранное, однако же не велел бы, без всяких дальних околичностей, взять, напр[и-мер], шведские законы и назвать их русскими»47.
Славянофилы же впервые решились проявить научную рефлексию в размышлениях о деятельности Петра I, обращаясь к обществу, а не к власти. Причем положение Хомякова и его товарищей осложняло то, что они адресовали свои суждения не только ученым, а всей читающей публике (отчасти исключение — диссертация К. Аксакова, но и она столкнулась с цензурными препонами, устроенными покровительствовавшим западникам графом С. Г. Строгановым48).
Существовала еще одна важная причина для того, чтобы поклонники Запада видели в славянофилах энергичных противников дела Петра I. Впрочем, прямо и недвусмысленно признать ее в то время было не в интересах западников и продолжателей их дела. Впервые заявил о ней настолько ясно, насколько это было возможно в советскую эпоху, Н. И. Цимбаев. В 1986 г., подчеркивая, что «ядром славянофильского миросозерцания» являлось «неприятие насилия», историк указал на истоки формирования отношения «московского направления» к петровским реформам. Он подчеркивал: «Знаменитый спор славянофилов и западников о Петре I — спор о революции, спор о насилии как средстве осуществлении политических и социальных преобразо-ваний»49. Иначе говоря, для обоих противоборствующих сторон первый российский император являлся еще одним символом, означающим право вводить в жизнь насильственным, а если потребуется и кровавым, путем самые «лучшие», самые «человеколюбивые» порядки. Чтобы убедиться в этом, вспомним хотя бы рассуждения К. Аксакова о Петре I и революции, родившиеся у него в полном потрясений 1848 г. Он так же, как до него А. И. Герцен, а после — С. М. Соловьев и многие другие, видел в Петре I «революционера на троне».
После 1862–1863 гг., когда Россия столкнулась с первыми революционными поползновениями, стала еще более очевидной грань, разделяющая славянофилов и тайно или явно сочувствующих революционерам западников. Именно из последних в то время начали формироваться будущие когорты либералов и социалистов.
К началу 1860-х гг. большинство славянофилов старшего поколения ушли из жизни. Роль их наследника и продолжателя в наибольшей степени перешла к И. С. Аксакову, который нередко, обращаясь в своих рассуждениях к тем или иным порокам и проблемам текущего времени, указывал на их истоки в деяниях Петра I. К примеру, еще в 1859 г. он писал в газете «Парус»: «Петр I перенял у немцев формы административные, формы судоустройства, делопроизводства и т. п. Похвалиться всем этим, кажется, мы не можем; несостоятельность такой пересадки, безобразие данных ею плодов не отвергаются и самыми ярыми защитниками его реформы. <…> Несмотря на полуторастолетнее доказательство бесплодности и вреда подобных попыток, того и гляди повторятся петровские же ошибки, с той разницею, что вместо немцев мы обратимся к французам, вместо камеры или коллегии какой-нибудь заведем „бюро“, вместо магде-бургского права возьмем французское муниципальное устройство. Немецкий кафтан, очевидно, ползет врозь, не годится, давай нарядимся во французский!»50

Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886), 1865 г.
Спустя пять лет И. Аксаков же заявлял со страниц газеты «День»: «Едва ли какое учреждение, наложенное на Россию Петром I, имело такое громадное действие на весь строй, склад, быт русского общества, как эта знаменитая табель о рангах! Она до такой степени вошла в плоть и кровь, и в душу наших верхних общественных классов, так перепуталась, сплелась со всем нашим социальным устройством, с нашими привычками и понятиям, — что мы даже и не замечаем той поразительной аномалии, какую представляет в русской жизни эта нерусская система!»51
За обилием подобных суждений современные исследователи склонны видеть в И. Аксакове безусловного, последовательного противника первого императора и его реформ52. В самом деле, в его публицистических произведениях легче, чем в работах иных славянофилов, найти критику петровских преобразований. Тем не менее мы не можем сбрасывать со счетов несколько обстоятельств.
Во-первых, нельзя сказать, что И. Аксаков воспринимал деяния Петра I исключительно в негативном свете. Так же как его брат и другие славянофилы, он относился к ним диалектически, проще говоря, видел в них добро и зло. К примеру, в 1862 г. И. Аксаков утверждал: «Мы не отрицаем того спасительного действия, которое имел и имеет петербургский период нашей истории на внутреннее развитие России. Самое отвлечение внешней деятельности на оконечность империи дало возможность созреть и выработаться нашему народному самосознанию. Путем отрицания той национальной исключительности, которой не лишено было отчасти наше историческое развитие, пришли мы к сознательной оценке наших народных начал и их общечеловеческого значения»53. Много лет спустя, уже за два года до своей кончины, И. Аксаков подчеркивал: «Мы, как известно, признаем в намерениях Петра искреннее желание блага для России, а в деле его — значительную часть правды о бок с великой неправдой, не перестающей громко вопиять и доселе… Правый в своих стремлениях, Петр был не прав в своем торжестве, говорит Хомяков»54.
Уже из приведенных слов можно видеть, что в оценках императора И. Аксаков не опровергал своих старших товарищей, не отделялся от них и даже не подвергал их суждения корректировке, а, наоборот, ссылался на их мнения.
Приведем еще один пример того, что критика иных из деяний первого русского императора являлась для Аксакова не самоцелью, а средством постижения и врачевания современных ему российских проблем. В письме к графине А. Д. Блудовой 26 мая 1862 г. он рассказывал о положении, которое сложилось в отечественной периодической печати и в частности — вокруг его газеты «День»: «…крикливее и заносчивее становится проповедь петербургской журналистики, смелее и громче вторят им густым басом Министерства вн[утренних] дел и нар[одного] просвещения. Я говорю: „вторят“, потому что, несмотря на разницу тона, они все тянут общий хор с Чернышевским и друг на друга работают. Газета моя ненавистна им всем ». И далее И. Аксаков подчеркивал, что в общей ненависти к русской народности и славянофильству «обретают свое единство и Гол[овнин] и Чернышевский, и Вал[уев] и Писаревский55… Они все же свои друг другу, — все петровцы»56. Остается добавить, что эти слова были написаны за считанные дни до того, как И. Аксаков был лишен прав издателя, а его газета приостановлена.
Очевидно, общей чертой обоих названных здесь министров и двух революционно настроенных публицистов автор письма видел отсутствие национального сознания, иначе говоря — космополитизм. Причем космополитизм не абсолютный, а европоцен-тричный в своем мировосприятии. Западническое мировоззрение, западническое отношение к органичной жизни как к материалу, который надо переделать по одному, бесспорно лучшему для всех образцу — это именно то стремление, что впервые проявилось в преобразованиях, осуществляемых Петром I. Стремление это игнорировало возможность у каждого народа видеть его собственную историческую судьбу, а значит — особые, выработанные на протяжении столетий черты характера и связанные с ними представления о вере. В этом и революционеры, и противостоящие славянофилам сановники были едины.
Во-вторых, важно подчеркнуть: мы не найдем у И. Аксакова ни одной работы, специально посвященной Петру и его реформам57. Все рассуждения о них возникали у И. Аксакова-публициста по поводу иных вопросов, актуальных для второй половины XIX столетия. Например, об отношениях власти, общества и народа или о разработке законов, соответствующих национальным традициям и ценностям, или о невмешательстве в органичное развитие народной жизни. Иначе говоря, он указывал на роль Петра I, когда размышлял о сферах жизни, которые по мнению не одних только славянофилов испытали в начале XVIII в. серьезные потрясения и нуждались (а порой нуждаются и сегодня) в их переустройстве. Характерно, что К. Н. Бестужев-Рюмин, отмечая в посвященной И. Аксакову некрологической статье, что более всего того озабочивало «обезнародение нашего общества, печальное последствие необходимого исторического процесса», пусть и несколько утрируя ситуацию, заявлял: «Таков смысл всех его нападений на петровскую реформу»58.
Для И. Аксакова потому и было важно акцентировать внимание на «лжи» Петра I, а не на его достижениях, что петровский переворот, как подчеркивал он, отнюдь не закончился. И русскому обществу важно было изжить, исправить его печальные последствия. Борьба с болезнью, требовала определения ее первопричины, а не описания и осмысления всех деяний императора, предпринятых в различных сферах жизни.
Наконец, в-третьих, взвешенный подход требует внимательного отношения не только к источникам, но и к историческому контексту, в котором они создавались59. Не забудем, что старшее поколение славянофилов действовало в Николаевскую эпоху и отнюдь нечасто имело возможность высказаться об императоре публично. С бдительным отношением на этот счет цензоров сталкивался не один К. Аксаков60. Позднее, в период правления Александра II, а тем более в 1880-е гг., в сознании русского общества произошла заметная эволюция. На смену едва ли не общему обоготворению Петра постепенно начала приходить рефлексия по поводу его преобразований и их последствий. Авторы новых работ стали более свободно судить о петровских реформах. Причем не только в научных трудах, адресованных большей частью ученым-специалистам, но и обращаясь к широкому кругу читателей. Именно такой удел выпал зрелому И. Аксакову. Если его старшие друзья в размышлениях о Петре I вынужденно проявляли сдержанность, он поступал иначе. Действуя в новых границах дозволенного (или даже впервые отодвигая их), И. Аксаков словно демонстрировал: да, и о таких деяниях, и о таких деятелях можно, даже нужно рассуждать и спорить! И все, что было сказано им о первом императоре и его преобразованиях, писалось именно для газетных страниц, предполагающих яркую, иной раз резкую речь, а не пространные рассуждения. В этом еще одно отличие статей И. Аксакова от подавляющего большинства работ старших славянофилов. Однако спустя десятилетия об этих его даже не статьях, а лишь отдельных суждениях на несколько строк (реже — абзацев), взятых из аксаковских газетных статей, стали судить по меркам ученых трактатов.
Список литературы Славянофилы и их противники в спорах о реформах Петра I
- Журнал докладов государю императору… // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. Оп. 22. 1 эксп. 1847. Д. 81. Ч. 19.
- Дело об издании С. Н. Глинкой журнала «Русский вестник» // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 777. Оп. 1. Д. 1458.
- Письма Аксакова И. С. к Блудовой А. Д., гр. 1862–1864, 1882 // Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (РО ИРЛИ). Ф. 3. Оп. 2. Д. 8.
- Письма Аксакова И. С. к Де-Пуле М. Ф. 1859–1865 // РО ИРЛИ. Ф. 569. Д. 105.
- Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? / Сост., вступ. ст. В. Н. Грекова, подг. текста, прим. В. Н. Грекова, Н. А. Смирновой. М.: РОССПЭН, 2002. 1008 с. (Из истории отечественной философской мысли).
- Аксаков И. С. Собр. соч.: В 12 т. СПб.: Росток, 2022. Т. 2: Славянофильство и западничество / Изд. подг. А. П. Дмитриев и Д. А. Федоров. 896 с.
- Аксаков К. С. Голос из Москвы / Публ., предисл. и примеч. В. А. Кошелева // Литература и история (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей XVIII–XX вв.) / Отв. ред. Ю. В. Стенник. СПб.: Наука, 1992. С. 297–300.
- Аксаков К. С. Полн. собр. соч. М.: В Университетской тип., 1875. Т. 2: Сочинения филологические. Ч. I. XII, 661 c.
- Аксаков К. С., Аксаков И. С. Избр. труды / Сост., авт. вступ. ст. и коммент.: А. А. Ширинянц, А. В. Мырикова, Е. Б. Фурсова. М.: РОССПЭН, 2010. 888 с.
- Бадалян Д. А. В. Г. Белинский-публицист: метаморфозы в борьбе литературных партий // Русская публицистика: эволюция идей и форм: Сб. статей / Отв. ред. Л. П. Громова. СПб.: Алетейя, 2021. С. 89–109.
- Бадалян Д. А. Журнал «Московский наблюдатель», С. С. Уваров и московская цензура: к истории борьбы в русской периодической печати 1830 х гг. // Русско-Византийский вестник. 2021. № 2 (5). С. 106–129.
- Бадалян Д. А. К национальному самосознанию — от попытки до подвига. Несколько сюжетов из истории славянофильства // Ортодоксия. 2021. № 3. С. 73–115.
- Бадалян Д. А. Представления славянофилов о Петре I и его реформах и их интерпретация противниками славянофильства // Тетради по консерватизму. 2022. № 3. С. 132–149.
- Бадалян Д. А. Русская идея и российская цензура (к истории двух статей А. С. Хомякова) // У мысли стоя на часах… Цензоры России и цензура / Под ред. Г. В. Жиркова. СПб.:Изд-во СПбГУ, 2000. C. 176–200.
- Бадалян Д. А. Ю. Ф. Самарин, славянофилы и борьба с «немецкой партией» // Тетради по консерватизму. 2019. № 2. С. 41–67.
- Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. Кн. 4. VIII, 450 с.
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1954. Т. 5: Статьи и рецензии. 1841–1844 / Ред. Н. Ф. Бельчиков. 863 с.
- Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. Т. 10: Статьи и рецензии. 1846–1848 / Подгот. текста и коммент. Е. И. Кийко и др., ред. А. Г. Дементьев. 474 с.
- Бестужев-Рюмин К. Н. И. С. Аксаков // Известия Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества. 1887. № 3. С. 137–140.
- Выскочков Л. В. Два императора: образ Петра Великого как идеологическая модель царствования Николая I // Русско-Византийский вестник. 2023. № 1 (12). С. 130–145.
- Гаврилов И. Б. Сергей Семенович Уваров. Жизнь. Труды. Мировоззрение // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. 2019. № 2 (4). С. 131–191.
- Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991. 125 с.
- Кизеветтер А. А. Реформа Петра Великого в сознании русского общества // Петр Великий в русской литературе: Воспоминания. Оценки. Образ / Сост., вступ. статья и прим. И. Н. Сухих. СПб: Геликон плюс, 2009. С. 187–211.
- Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полн. собр. соч.: В 4 т. / Сост., прим. и коммент. А. Ф. Малышевского. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. Т. 1: Философские и историко-публицистические работы. 304 с.
- Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. СПб.: Издание Императорской Публичной библиотеки, 1861. Т. 1. XVIII, 283 с.
- Корф М. А. Записки. М.: Захаров, 2003. 719 с.
- Кошелев В. А. К. С. Аксаков и западные революции: Публицистические статьи 1848 г. // Литература и история (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей XVIII–XX вв.) / Отв. ред. Ю. В. Стенник. СПб.: Наука. С. 306–312.
- Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи 1732–1764 гг. / Подгот. Г. П. Блоком, В. Н. Макеевой; примеч. Г. П. Блока и др.; ред. В. В. Виноградов и др. 1279 с.
- Малинов А. В. Образ Петра Великого в учении петербургских славянофилов // Кунсткамера. 2022. № 2 (16). С. 18–34.
- Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Л.: Гослитиздат, 1955. Т. 1: 1826–1857 / Подг. текста, вступ. статья и примеч. И. Я. Айзенштока. XLIV, 543 с.
- Никитенко А. В. Похвальное слово Петру Великому, императору и самодержцу Всероссийскому, Отцу Отечества // Петр Великий: pro et contra: Личность и деяния Петра I в оценке рус. мыслителей и исслед.: Антология / Редкол.: Д. К. Бурлака и др. Предисл. Д. К. Бурлаки, Л. В. Полякова. Послесл. А. А. Кара-Мурзы. Коммент. С. Н. Казакова, К. Е. Нетужилова. СПб.: Изд-во РХГИ, 2003. C. 153–165.
- Пирожкова Т. Ф. К. С. Аксаков и его диссертация «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2009. № 2. С. 108–118.
- Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. М.: Изд-во Московского университета, 1997. 221 с.
- Погодин М. П. Слово о назначении университетов вообще и в особенности русских // Речи и стихи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета июня 26 дня 1830 года. М: Унив. тип., 1830. С. 109–128.
- Погодин М. П. Соч. М.: В синодальной типографии, 1872. Т. 3: Речи, произнесенные М. П. Погодиным в торжественных и прочих собраниях. 1830–1872. 627 с.
- Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М.: ОГИ, 2000. 366 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1938. Т. 10: История Петра; Записки Моро-де-Бразе; Заметки о Камчатке / Общ. ред. М. А. Цявловский. 578 с.
- Ружицкая И. В. Барон М. А. Корф — историк: По материалам его архива. М.: Археогр. центр, 1996. 57 с.
- Самарин Ю. Ф. Собр. соч.: В 5 т. / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. СПб.: Росток, 2013. Т. 1: Литература и история. 528 с.
- Симонова И. А. Федор Чижов. М.: Молодая гвардия, 2002. 335 с. (Жизнь замечательных людей).
- Соловьев Е. А. «Великий революционер» или «довершитель»: мифология петровских деяний в трудах историков эпохи Николая I (Н. А. Полевой и М. П. Погодин) // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: История России. 2004. № 3. С. 167–174.
- Стогов Д. И. Отношение к Петру Великому русских монархистов начала ХХ века // Русско-Византийский вестник. 2023. № 1 (12). С. 158–173.
- Удалов С. В. Петр I и русские консерваторы первой половины XIX в. // Русско-Византийский вестник. 2022. № 3 (10). С. 170–183.
- Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки / Сост., вступ. ст. и коммент. Б. Ф. Егорова. М.: Современник, 1988. 461 с. (Библиотека «Любителям российской словесности». Из литературного наследия).
- Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1904. Т. 8. Письма. VI, 468 с.
- Цимбаев Н. И. Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. 2‑е изд., испр. и доп. М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2013. 447 с.
- Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма / Сост. и коммент. С. Г. Блинова и др.; отв. ред. и авт. вступ. ст. З. А. Каменский. М.: Наука, 1991. Т. 1: Сочинения на русском и французском языках. 800 с.
- Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма / Сост. и коммент. С. Г. Блинова и др.; отв. ред. и авт. вступ. ст. З. А. Каменский. М.: Наука, 1991. Т. 2: Письма и комментарии. 672 с.
- Ширинский С. А. Петр Великий. Лирическое песнопение в осьми песнях. СПб.: В тип. Шнора, 1810. 216 с.
- Ширинянц А. А., Мырикова А. В., Фурсова Е. Б. Константин Сергеевич и Иван Сергеевич Аксаковы // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Избр. труды / Сост., авт. вступ. ст. и коммент.: А. А. Ширинянц, А. В. Мырикова, Е. Б. Фурсова. М.: РОССПЭН, 2010. С. 5–114.