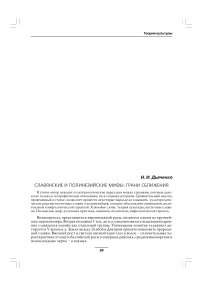Славянские и полинезийские мифы: грани сближения
Автор: Дьяченко И.И.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Исследования молодых ученых
Статья в выпуске: 1 (27), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье автор находит культурологические параллели между странами, которые далеки не только в географическом отношении, но и социокультурном. Сравнительный анализ, проведенный в статье, позволяет провести некоторые параллели и выявить культурологическое родство восточных славян и полинезийцев, которое обусловлено анимизмом, политеизмом и мифологической героикой.
Теория культуры, восточные славяне, полинезия, миф, культовая практика, анимизм, политеизм, мифологическая героика
Короткий адрес: https://sciup.org/14488744
IDR: 14488744
Текст научной статьи Славянские и полинезийские мифы: грани сближения
СЛАВЯНСКИЕ И ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ МИФЫ: ГРАНИ СБЛИЖЕНИЯ
В статье автор находит культурологические параллели между странами, которые далеки не только в географическом отношении, но и социокультурном. Сравнительный анализ, проведенный в статье, позволяет провести некоторые параллели и выявить культурологическое родство восточных славян и полинезийцев, которое обусловлено анимизмом, политеизмом и мифологической героикой. Ключевые слова: теория культуры, восточные славяне, Полинезия, миф, культовая практика, анимизм, политеизм, мифологическая героика.
Великороссы, представители европеоидной расы, являются одним из крупнейших народов мира. Вторая половина 1 тыс. до н.э. ознаменовалась выделением древних славянских племён как отдельной группы. Упоминание понятия «славяне» датируется V веком н.э. Земли между Эльбой и Днепром принято именовать прародиной славян. Высокий рост и светлая пигментация глаз и волос – отличительные характеристики атланто-балтийской расы в северных районах, средиземноморские и монголоидные черты – в южных.
«Мореплаватели солнечного восхода» полинезийцы (Те Ранги Хироа), люди со светло-шоколадным цветом кожи, лицами с монголоидными чертами, волнистыми волосами, – обитатели бескрайних просторов Тихого океана. Около 5 тыс. лет назад люди с монголоидным обликом прибыли в Меланезию из Юго-Восточной Азии. Они смешались с местными чернокожими обитателями островной страны, жившими здесь за много тысяч лет до них. Лиши одна небольшая группа не стала заселять эту территорию, а обосновалась с середины 2 тыс. до н.э. на островах Тонга и Самоа, где не менее тысячелетия формировались характерологические особенности полинезийской культуры. Полинезия – тысячи островов «полинезийского треугольника», в вершинах которого – Гавайские острова, Новая Зеландия и остров Пасхи. Немыслимые расстояния разделяют русских, язык которых принадлежит к славянской ветви индоевропейской семьи, и полинезийцев, говорящих на языке из австронезийской семьи, антропологические типы их своеобразны, хотя не исключаются европеоидные черты у полинезийцев и монголоидные – у великороссов.
Наши народы разделяет океан географических, антропологических, этнографических, культурных различий. И всё же сравнительный анализ культур неминуемо приводит не только к описанию отличительных признаков, но и тех характеристик, что претендуют на некоторое этнологическое родство. Прежде всего это касается мифологических, религиозных аспектов.
Языческая религия восточных славян состояла в поклонении явлениям природы, физическим божествам, душам усопших. Молния, представляющая собой наиболее примечательное природное зрелище, безусловно, заставляла обращать на себя внимание: «…свет молнии во всякое время обнаруживает своё могущество, тогда как … действие солнца ограничено, уступает владычество другому, противоположному … враждебному началу – мраку … Молния же никогда не теряла своего могущества, не побеждалась другим началом: свет молнии сопровождается обыкновенно живительным дождём…» (С. М. Соловьёв). Язычество было формой освоения природы человеком. В «Слове об идолах» русский книжник XII века выделил три типа языческой культуры: принесение жертв добрым духам – берегиням, и злым духам – упырям; поклонение Роду, творцу вселенной, и Рожаницам, богиням плодородия; поклонение Перуну, богу грома и молнии, Хорсу, богу Солнца, сыну Рода, брату Велеса, и Велесу, покровителю скота и скотоводов. В VIII–X веках восточные славяне стали сооружать специальные культовые места – «болотные городища» с округлыми очертаниями, окольцованные рвом и валом. В центре площади устанавливались идолы, как в святилище Перуна в урочище Перынь близ Новгорода. Языческие обряды совершались на природе под руководством волхвов, кудесников, получавших сверхъестественную силу от богов. Для совершения языческих богослужений использовались рощи и холмы: «Земная природа стала для него (славянина) неприкосновенным святилищем всех его верований и мерилом всех его понятий» (Д.Шеппинг, 1849). Сформированный князем Владимиром пантеон состоял из наиболее почитаемых богов: Перуна, Стрибога, бога ветра, богов Солнца Даждьбога и Хорса, хранительницы посевов крылатой собаки Симаргла, богини плодородия Макоши. Храм в Киеве, воздвигнутый князем в честь пантеона, имел стены, но крышей идолам служило небо.
В языческой славянской культуре главенствовали три мира: навь – подземное царство с душами умерших и чудовищами, явь – земля с людьми, животными и растениями, правь – небо с высшими богами. Миры объединяли берёза, сосна и дуб. Славянам было свойственно почитание умерших. Они верили в их бессмертие, возлагая на могилы яства. Имена бессмертного деда Щура и Домового, оберегающих от напастей, были дороги славянам.
Отголоском фетишизма, анимизма было поклонение восточных славян камням, деревьям, рощам. Согласно преданию, на месте современного Белозёрска росли берёзы, которым приносились жертвы. К камням и каменным орудиям также относились очень почтительно. При встрече весны камни украшались лентами, вокруг них водились хороводы.
Примером тотемизма, человеческой веры в происхождение рода от животного может служить показательная сказка древних славян об Иванушке Медвежьем ушке, сыне человека и медведя. Крупные татуировочные знаки на лице у маори или на груди жителей островов Гамбье, Пасхи помогали безошибочно определить принадлежность человека к тому или иному роду. Татуировка у полинезийцев представляла собой язык социума. Тотемы узнавались в ящерицах, черепахах, фрегатах, акулах, совах.
Полинезийский пантеон вышел из мифологии, которая по уровню сложности не уступает древнегреческой, а временами приближается к европейской натурфилософии: «В течение многих веков, до того, как были созданы небо, земля и небесные тела, существовала Тьма – неосязаемая, неведомая, невидимая, непознаваемая… и из Развития появился Рост, из Роста появилась Энергия; из Энергии появилась Мысль; из Мысли появилось Сознание; из Сознания появилось Желание…». Одной из основополагающих идей философии коренных жителей Новой Зеландии маори является единство человека и природы. На самом деле, мифология – «особая форма искусства, устремлённая за пределы истории ко вневременному ядру человеческого бытия, помогающая вырваться из хаотичного потока случайных событий и уловить отблеск самой сути реальности» (1). Мифология обладает исключительной силой, поскольку способна вызвать состояние экстаза даже перед лицом смерти. Мифу присуща функция наставничества: он способен объяснить, что предпринять для обогащения жизни. «Предания о богах и героях, спускавшихся в подземный мир, проходивших лабиринты и сражавшихся с чудовищами, выявляли тайны подсознания, показывая людям, как справляться со своими внутренними кризисами» (1). Действительно, слова «мистицизм», «миф», «мистерия», подразумевая некую тайну, тишину, восходят к древнегреческому слову musteion , что значит «закрывать глаза», «смыкать губы», – и мистики по сей день, подобно мифическим героям, блуждают в дебрях человеческой души в безмолвии, готовые к внутреннему преображению.
Всё сущее обладает частицей жизненной силы – «маури», благодаря которой всё взаимосвязано. Культура и все религиозные устои маори призваны защитить природу, на любое вмешательство в неё требуется разрешение богов. И в среде полинезийских навигаторов знания о природе играли первостепенную роль. Своё местоположение «мореплаватели солнечного восхода» определяли по направлению полёта птиц, форме облаков, температуре, степени солёности воды, её цвету.
Как и славяне, полинезийцы почитали камень. Собственно, из всех народов Океании они были наиболее искусны в хирургии, где мастерски управлялись при помощи каменных и костяных инструментов. Ими проводились и трепанация черепа, и ампутация конечностей. Полинезийские корабли изготовлялись только каменными орудиями, без единого металлического куска.
Колонизируя новые острова, полинезийцы не слагали мифы заново, а приносили их с собой. Именно этим объясняется тот факт, что на островах, которые разделяют огромные расстояния, господствуют мифы, отличающиеся лишь именами персонажей и различной степенью важности описываемых эпизодов. Морские путешествия полинезийцев, обладающих высочайшим уровнем мореходного искусства, глубокими знаниями в области климатологии, астрономии, метеорологии, обрастали мифами о героях, отправляющихся в странствия по потусторонним мирам. Генеалогическое древо полинезийских богов вырастает из Папа, Ранги и их детей. «Вари» (школы) в Новой Зеландии и на других островах Полинезии возлагали на себя обучение детей мифам и религиозным постулатам.
Г
Наиболее интересные мифы были сложены народом маори в Новой Зеландии. Изначально существующее Те Пу долго скучало и, наконец, раздвоилось, создав Ночь и Смерть, противников Атеа (света). Затем появились Папа (земля) и Ранги (небо). Вначале Папа и Ранги сливались, дети же требовали расширения пространства. Их старшему сыну Тане, которому впоследствии стали поклоняться как богу деревьев, птиц, каноэ и жилищ, пришлось разъединять объятия родителей, и те, в результате, стали напоминать раздвоенный ствол дерева. Братьями Тане являются Тангароа, Ту и Тахири, боги моря, войны, ветров, а его женой – Хине, будущая Хине-нуи-те-по, богиня мрака и смерти. Однажды она узнала, что супруг приходится ей не мужем, а отцом. От горя она спустилась в мир мрака.
Центральный персонаж полинезийских мифов Мауи совершил множество героических подвигов: заарканил деда Солнце и заставил передвигаться его по небу ползком, после чего дни стали длиннее, у хозяйки подземного царства, своей бабки, выпросил её горячие пальцы – и у людей появилась возможность добывать огонь. Иногда ради людского благополучия Мауи приходилось вступать в схватку с богами. Собственно, сам миф по природе своей таков, что неразрывно связан с героикой, прикосновением к чему-то священному. Миф передаётся из поколения в поколение, поскольку призван быть опорой в критические периоды мятежных исканий. Всем временам и народам были свойственны размышления о смерти и бессмертии. Не обошли они и новозеландских героев. Именно Мауи предпринял попытку подарить людям бессмертие, решив пройти через спящую богиню Хине. Попытка не удалась – он не смог выйти из её рта. Одна из птичек, охранявших богиню, не выдержала смешного зрелища и хихикнула. Разбуженная богиня задушила героя кишками – и люди потеряли последнюю возможность стать бессмертными.
Религиозные верования полинезийцев, как и восточных славян, неразрывно связаны с политеизмом , многобожием. Практически на всех островах Полинезии главными богами являются Тане, олицетворение мужского начала, Ту, сын Папа и Ранги, – бог войны (у славян – Перун), Ронго – покровитель земледелия (у славян – Макошь, крылатая собака Симаргл), Тангароа – создатель Земли и людей, что вышли из личинок «прародительницы-лианы» (у славян – Род). В честь этих наиболее почитаемых богов возводились храмовые центры, сооружались жреческие школы, создавались общества «ареоев», членов которых объединяли обет бездетности и постоянные путешествия с целью организации религиозных представлений, во время которых пелись гимны в честь сына Тангароа воинственного Оро. Полинезийцы верят, что жизнь, связывающая поколения, и смерть – лишь способы существования. Обретающие после смерти власть над природой усопшие пребывают где-то у границ реального мира. К мёртвым относятся как к вестникам, советчикам, зачастую их призывают молитвами для исцеления больных.
Безусловно, мифологические сюжеты не предполагают буквального понимания, но очевидно одно: мифы помогали приблизиться к неведомому и учили стойкости, раскрывая человеческий потенциал. Современные люди, как когда-то и их предки, продолжают поиски героев, обращаясь ко многим сторонам реальности, создают кумиров. Миф же изначально не был ориентирован на пассивное созерцание и патологическое преклонение, будучи нацеленным на духовное преображение: «Задача героического мифа – не дать людям объект для обожания, а пробудить героический дух в них самих. Встреча с подлинным искусством – это истинно мистическая встреча, всегда несущая одну и ту же благую весть: “Измени свою жизнь!”» (1).
При типологизации культуры следует учитывать, что её универсальность не исключает самобытности. Культура каждого народа уникальна и самоценна, и опыт по её сохранению сродни сбережению общечеловеческих ценностей.