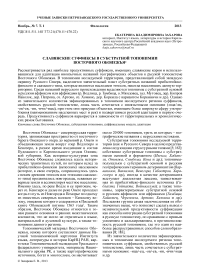Славянские суффиксы в субстратной топонимии Восточного Обонежья
Автор: Захарова Екатерина владимировнА.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (136) т.1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается ряд наиболее продуктивных суффиксов, имеющих славянские корни и использовавшихся для адаптации иноязычных названий географических объектов к русской топосистеме Восточного Обонежья. В топонимии исследуемой территории, представляющей собой западную окраину Русского Севера, выделяется значительный пласт субстратных названий прибалтийско-финского и саамского типа, которые являются наследием этносов, некогда населявших данную территорию. Среди названий нерусского происхождения выделяются топонимы с субстратной основой и русским аффиксом или аффиксами (р. Водлица, р. Тамбица, о. Мяндовец, зал. Мутовец, дер. Кипров Наволок, дер. Патрова, оз. Артово, оз. Хомино, дер. Коркила с вариантом Коркиничи и др.). Однако из значительного количества зафиксированных в топонимии исследуемого региона суффиксов, свойственных русской топосистеме, лишь часть сочетается с иноязычными основами (-ица/-ец, -ов/-ев, -ин, -ичи/-ицы), при этом они присущи объектам, имеющим более широкую сферу употребления (наименованиям населенных мест и рек) и подвергшимся русской адаптации в первую очередь. Продуктивность суффиксов варьируется в зависимости от территориальных и хронологических рамок бытования.
Восточное обонежье, субстратная топонимия, суффиксальные модели, адаптация
Короткий адрес: https://sciup.org/14750539
IDR: 14750539 | УДК: 811.511.1:81’373.21(470.11+470.22)
Текст научной статьи Славянские суффиксы в субстратной топонимии Восточного Обонежья
Восточное Обонежье - севернорусская территория, занимающая пространство от восточного берега Онежского озера до верховий р. Онеги и объединяющая земли вокруг озер Водлозеро и Кенозеро, в разное время входившие в состав Пудожского и Каргопольского уездов Олонецкой губернии. Как историко-культурная зона Восточное Обонежье сложилось вдоль исторических транзитных путей, по которым вслед за прибалтийско-финским (вепсским) населением (которое, в свою очередь, соприкоснулось здесь с неким древним этносом или этносами саамского типа) продвигались новгородцы, осваивая северные земли и ассимилируя местное население. Именно здесь, по реке Водле и ее притокам, через оз. Кенозеро и далее по реке Онеге проходил когда-то путь из Новгорода в Поморье по одному из известных северных волоков - Кенскому волоку, описание которого содержится в Писцовой книге Обонежской пятины 1563 года1. Таким образом, Восточное Обонежье относится к зонам раннего освоения и ранних межэтнических контактов, что не могло не отразиться в языке, материальной и духовной культуре, а также топонимии данного региона.
Топонимический материал Восточного Обо-нежья, основу которого составляют данные Научной топонимической картотеки Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, картотеки Топонимической экспедиции Уральского федерального университета, материалы Национального архива РК, а также картографические источники, богат и многослоен, он насчитывает около 20 000 топонимов, треть из которых - географические названия с нерусскими истоками.
Субстратная топонимия исследуемой территории (как и Русского Севера в целом) представлена следующими структурными типами [5; 163]: собственно субстратные топонимы с субстратными основой и формантом ( Илекса, Хабань-зя, Отовжа, Сомбома, Кена и др.); топонимы-полукальки с субстратной основой и русским географическим термином-детерминантом ( Вар-наволок , Вахкамох , Венегора, Габостров, Хара-гозеро и др.), иногда в качестве детерминанта выступает диалектная лексема, заимствованная из прибалтийско-финского источника ( Га-блахта, Гойпахта, Войнасалма ); а также топонимы, характеризуемые субстратной основой и русским аффиксом или аффиксами (Тамбица, Хайновец, Чережиха, Артово, Хилкина и др.). Последняя группа самая малочисленная из обозначенных выше, что позволяет сделать вывод о незначительной продуктивности суффиксации как способа интеграции субстратной топонимии в русскую топосистему, по сравнению с прямым усвоением и калькированием, в противоположность русской топонимии, где это один из наиболее распространенных способов словообразования [8; 183].
Из значительного количества зафиксированных в топонимии исследуемого региона топонимических суффиксов, свойственных русской топосистеме, лишь часть сочетается с субстратными основами: -ица/-ец, -ов/-ев, -ин, -ичи/-ицы и др.
Суффиксы -ица и -ец относятся к древним славянским суффиксам, функцией которых было образование существительных с диминутивной семантикой. Они в основном представлены в наименованиях рек, ручьев, островов, заливов, мысов и угодий, при этом продуктивны в названиях, образованных от имен нарицательных и топонимов [2; 64]. Изначальная диминутивная семантика суффиксов, возможно, сохранилась в следующих топонимах: р. Водлица (ср. р. Вод-ла), р. Вохтомица (р. Охтома), руч. Шортомец (р. Шортома), в последнем примере суффикс -ец , очевидно, тождественен суффиксу - ица и представляет собой его мужской вариант. Возможно, в этот же ряд вписывается и название острова Нюрица/Нюрича (саам. njuorrâ, ńūrr ‘подводный камень; мель’ [11]) в противоположность многочисленным островам с названиями Нюра, Нюры, Нёра.
В основах топонимов, оформленных суффиксами - ица и - ец , может отражаться характеристика воды или почвы: зал., мыс Мутовец (кар. muta, вепс. muda ‘муть, ил’ [10], [1]), уг. Чу-роватица (кар. čuuru, вепс . čuru, čuur ‘крупный песок, гравий, дресва’ [10], [1]); растительности, произрастающей в непосредственной близости или на самих называемых объектах: р. Гормени-ца/Хорменица (кар. horma, hormu ‘кипрей, иван-чай’ [10]), руч. Хайновец (кар. heinä, вепс. hein ‘трава, сено’ [10], [1]), о. Кузовец (кар. kuuzi, вепс. kuz’ ‘ель’ [10], [1]), о. Мяндовец, уг. Мяндовцы (кар. mänty, вепс. mänd ‘мяндовая сосна, сосна на болоте’ [10], [1]); встречаются и названия животных: г. Мигрец (кар. mägrä, вепс. mägr ‘барсук’ [10], [1]), в последнем примере топоним, вероятно, помечает место обитания промыслового животного.
Продуктивность данной суффиксальной модели в Восточном Обонежье неодинакова – ареал функционирования охватывает территории, расположенные вдоль водно-волоковых путей (путей раннего новгородского освоения), в отдалении от которых рассматриваемые суффиксы не обнаруживаются. Выявленный ареал соотносится с ареалом функционирования рассматриваемой модели и в русской топонимии. Поскольку суффиксы -ица, -ец представляли заметную величину на русском Северо-Западе, особенно в Псковской и смежных землях [9; 72], можно предположить, что их появление в Восточном Обонежье связано с новгородским освоением северных земель, где они начинают использоваться и для адаптации иноязычных названий к русской системе именования географических объектов.
Одними из самых распространенных в славянской топонимии, благодаря выполняемой функции выражения принадлежности, являются суффиксы -ов/-ев, -ин [9; 69], представленные в основном в названиях населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. В основах топонимов такого типа логично усматривать прибалтийско-финские антропонимы, поскольку в именовании подобных объектов в относительно развитых аграрных зонах доминировал владельческий принцип [2; 64]. И действительно, ряд топонимов восходит к карельским вариантам русских православных имен: дер. Кипров Наволок, бывш. дер. Кипрово, уг. Кипров Мыс: кар. Kibra, Kibri, Kibro (i), Kibru – рус. Киприан [12; 253]; дер. Патрова/Патровская: кар. Pat-ro (i) – рус. Патрикей, Патракей; оз. Артово: кар. Arto (i), Artto (i) – рус. Артемий, Артем [14; 51, 62], уг. Настова: кар. Nasta, Nasto (i) – рус. Анастасия или Анастасий [14; 101]; оз. Хоми-но: кар. Homa – рус. Фома [13; 189]; уг. Хилкина: кар. Hilkka, Hil (k) ko (i), Hiľ (k) ko (i) – рус. Филипп [14; 114] и др.
Посессивность данной модели сохраняется и в следующих, уже неантропонимных названиях: лес, уг. Канзово (кар. kansa, вепс. kanz ‘семья, группа людей, народ’ [10], [1]), уг. Пойкино, руч. Пойкин (кар. poika, вепс. poig ‘сын, мальчик’ [10], [1]), уг. Пирхово (возможно, от кар., вепс. pereh ‘семья’ [10], [1]), г. Акова (кар. akka, вепс. ak, akk ‘жена, старая женщина’ [10], [1]), оз. Нойдово (кар. noita, вепс. noid ‘колдунья, ведьма’ [10], [1]) и др.
Согласно И. И. Муллонен, популярность модели -ов/-ев, -ин со временем привела к ослаблению ее посессивной и приобретению так называемой топонимической функции [8; 186]: оз., бол. Мяндово, бол. Мяндов Мох (кар. mänty, вепс. mänd ‘мяндовая сосна, сосна на болоте’ [10], [1]), бол. Равково (кар. rahka-, rahkasuo, rahkasam-mal ‘торфяной мох, сфагнум’ [10]), уг. Каскино (кар. kaski, kaški, вепс. kas’k ‘подсека, пожог’ [10], [1]) и др.
Среди названий субстратного происхождения, оформленных суффиксом -ов, выделяется группа водлозерских ойконимов (часть из них восстанавливается из ранних письменных источников), примечательных тем, что, помимо прибалтийско-финского (порой нехристианского) антропонима в основе, они содержат прибалтийско-финский локативный суффикс -l. Иначе говоря, в основе ойконима Кургилово реконструируется прибалтийско-финский оригинал *Kurgila, где -la – приб.-фин. суффикс с семантикой места, а Kurki/Kurg – приб.-фин. нехристианское имя, прозвище первопоселенца. В этот же ряд входят следующие ойконимы: дер. Вачелово/Вачалово (возможно, из кар. Vat-sa, Vatsei, Vatsi, Vatso (i), Vatšei, Vatšoi – Василий, Вася [14; 138]), дер. Дешалово (возможно, из кар. Deša, Dešoi – рус. Ефим), «дер. на Иголове горе»2 (<приб.-фин. антропоним Iha), д. Бости-лово и др. Часть из приведенных выше названий идентична ойконимам, представленным на исконных вепсских территориях в Присвирье, где данная модель была очень продуктивна [6]. Примечательно, что на Водлозере (как и в При-свирье) для адаптации субстратных ойконимов с -l-овым топоформантом, кроме модели -ово, использовалась русская модель с суффиксом -ичи/-ицы (Коркила / Коркиничи; Пытилова / Пытилиницы; Гольяницы), восходящая к прасла-вянскому ойконимному форманту *-itji [4]. Судя по карте бытования, модель -ичи/-ицы распространилась в Присвирье и Обонежье по маршруту, который шел из Поволховья и связан с Ладогой как центром освоения. При этом данный тип начал здесь функционировать прежде всего как модель для адаптации неславянских ойконимов c -l-овым топоформантом, обозначающим место проживания.
Но в отличие от Присвирья, где модель обладает исключительной продуктивностью, здесь, на северо-восточной окраине ее ареала, взаимосвязь между прибалтийско-финской -l -овой моделью и русским типом -ицы/-ичи не столь очевидна, что, видимо, свидетельствует о периферийном расположении, привязанном к транзитному водному пути по р. Водле.
Сосуществование в одном ареале двух суффиксов (- ово и - ичи/-ицы ), адаптирующих названия нерусского происхождения к русской топосистеме, наводит на мысль о разных путях их проникновения, а возможно, и времени функционирования в Водлозерье.
Видимо, модель - ичи/-ицы приходит в Восточное Обонежье с вепсских территорий вместе с потоком новгородского освоения, происходившего в первой половине II тыс. н. э. Что касается суффиксальной модели - ово , используемой в той же функции ее появление здесь, видимо, связано уже с низовской московской колонизацией.
Что касается других суффиксов, то они не получили широкого распространения в Восточном Обонежье в приложении к субстратным основам и присутствуют главным образом в наименованиях сельскохозяйственных угодий. Часть гео- графических названий перешла в топонимическое употребление из апеллятивной диалектной лексики:
-
- иха : уг. Ениха/Енихи (возможно, восходит к приб.-фин. основе *ena ‘большой’) , мельница Чережиха (<*Тережиха) стояла на руч. Чере-жишный (от кар. torisija ‘журчащий’ < torista ‘журчать’, продуктивная карельская топонимная модель для называния ручьев, небольших рек [3; 306–307]);
-
- ушк : р., руч. Лумбушка (саам. *lombal ‘маленькое внутреннее озеро, через которое течет река’) , уг. Нитушки (кар. niitty, вепс. nit ‘луг, пожня, покос’ [10], [1]);
-
- ск : бол. Чеглинское, руч. Чеглинский (субстрат. *cuhl - ‘угол, тупик’ [7; 296-304]) , руч. Войский (приб.-фин. oja ‘ручей’ с протетическим в ) и др.
Анализ топонимии Восточного Обонежья показал, что суффиксация как способ интеграции субстратных топонимов в систему русских географических названий малопродуктивен – большая часть иноязычных названий перешла в русское употребление в результате прямого усвоения либо в виде полукалек, что, в свою очередь, может быть свидетельством длительных контактов русского и прибалтийско-финского населения, в результате которых последние сменили самосознание, растворившись в русской среде. Непродуктивные в прибалтийско-финской оригинальной топонимии суффиксальные модели оказались невостребованными и в ходе адаптации иноязычных наименований к русской топо-системе. Суффиксация коснулась прежде всего названий поселений и рек как наиболее важных объектов, имеющих широкую сферу употребления на этапе славянского освоения края.
Ареальная характеристика функционирования определенных суффиксальных моделей и данные письменных источников позволяют делать выводы о путях и времени освоения славянами территории Восточного Обонежья.
* Статья подготовлена в рамках выполнения проекта «Электронная топонимическая карта Олонецкой Карелии» (программа фундаментальных исследований ОИФН РАН «Язык и литература в контексте культурной динамики») при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
СОКРАЩЕНИЯ вепс. – вепсский; г. – гора; дер. – деревня; зал. – залив; кар. – карельский; о. – остров; оз. – озеро; пастб. – пастбище; приб.-фин. – прибалтийско-финский; р. – река; рус. – русский; руч. – ручей; саам. – саамский; ср. – сравни; уг. – угодье
Список литературы Славянские суффиксы в субстратной топонимии Восточного Обонежья
- Купчинский О. А. Древнейшие славянские топонимические типы и некоторые вопросы расселения восточных славян//Славянские древности: Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980. С. 45-72.
- Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Т. I. Екатеринбург, 2001. 345 с.
- Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994. 157 с.
- Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск, 2002. 356 с.
- Муллонен И. И. Топонимия Заонежья: Словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск, 2008. 241 с.
- Никонов В. А. Введение в топонимику. Москва: Наука, 1965. 179 с.
- Karjalan kielen sanakirja. I-VI. LSFU XVI. Helsinki, 1968-2005.
- Lehtiranta J. Yhteissaamelainen sanasto//MSFOu. 200. Helsinki, 1989. 180 s.
- Nissila V. Ortodoksisia henkilonnimia Aunuksen kylannimistossa//Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 72. Helsinki, 1973. S. 239-275.
- Nissila V. Suomen Karjalan nimisto//Karjalaisen Kulttuurin Edistamissaation julkaisuja. Joensuu, 1975. S. 189.
- Nissila V. Suomen Karjalan ortodoksinen nimisto//Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita. 1. Helsinki, 1976. S. 43-172.