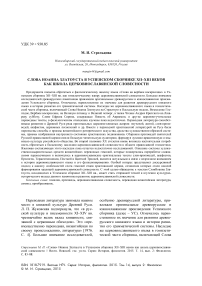Слова Иоанна Златоуста в Успенском сборнике XII-XIII веков как школа церковнославянской словесности
Автор: Стрельцова Маргарита Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: К 100-летию со дня рождения профессора Кирилла Алексеевича Тимофеева
Статья в выпуске: 2 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка обратиться к филологическому анализу языка «Слова на вербное воскресение» в Успенском сборнике XII-XIII вв. как гомилетическому жанру церковнославянской словесности. Большее внимание исследователей древнерусских памятников привлекали оригинальные древнерусские и южнославянские произведения Успенского сборника. Отмечалось первостепенное их значение для развития древнерусского книжного языка и истории развития его грамматической системы. Наследие же церковнославянского языка в гомилетической части сборника, включающей Слова Иоанна Златоуста на Страстную и Пасхальную недели, Вознесение Господне, Вербное воскресение, на Великую пятницу и Великий четверг, а также Чтение Андрея Критского на Лазареву субботу, Слово Ефрема Сирина, содержащее Повесть об Авраамии, и другие церковно-учительные переводные тексты, в филологическом отношении изучены пока недостаточно. Переводная литература способствовала развитию в Древней Руси ряда оригинальных церковно-книжных жанров: поучений, житий, слов-проповедей, акафистов, церковных песнопений и др. Вместе с переводной христианской литературой на Русь были перенесены способы и приемы византийского риторического искусства, средства художественно-образной системы, приемы изображения внутреннего состояния христианских подвижников. Сборники проповедей святителей Русской православной церкви имели большую читательскую аудиторию, формируя духовно-нравственную и языковую культуру российского общества. Во второй половине XX столетия вновь возникла настоятельная потребность обратиться к бесценному наследию церковнославянской словесности в области православной гомилетики. Языковая составляющая этого наследия пока остается недостаточно исследованной. Описание системы художественно-выразительных средств византийских переводных гомилий, которые подвергались переработке славянскими переводчиками и включались в церковнославянские оригинальные тексты слов-проповедей, акафистов, Прологов, Торжественников, Постной и Цветной Триодей, является актуальным в связи с возросшим вниманием к истории церковнославянского языка и его функционированию. Особый интерес представляет дискурсивный подход к анализу особенностей слога гомилий отцов христианской церкви, сочинения которых стали школой формирования традиций церковнославянской словесности. С этой целью обращение к текстам СловИоанна Златоуста, находящихся в Успенском сборнике XII-XIII вв., может стать отправной точкой в изучении культурно-исторического вклада данного памятника в развитие церковнославянской словесности.
Гомилия, проповедь, церковнославянская словесность, переводная византийская литература, символ, прообразование
Короткий адрес: https://sciup.org/147219289
IDR: 147219289 | УДК: 39
Текст научной статьи Слова Иоанна Златоуста в Успенском сборнике XII-XIII веков как школа церковнославянской словесности
Переводная литература занимала важное место в книжной культуре Древней Руси. Л. П. Жуковская подчеркнула, что «в русской культуре и письменности XI–XIV вв. чрезвычайно велик вклад книжности, связанной с церковным обиходом». Это «преимущественно переводная, византийская по своему происхождению, литература» [1976. С. 4]. Большее внимание исследователей, особенно древнерусской литературы, привлекали оригинальные древнерусские и южнославянские произведения Успенского сборника (далее – УС). Отмечалось первостепенное их значение для развития древнерусского книжного языка и истории развития его грамматической системы. Наследие же церковнославянского языка в гомилетической части сборника, включающей Слова
Стрельцова М. И . «Слова» Иоанна Златоуста в Успенском сборнике XII–XIII веков как школа церковнославянской словесности // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 2: Филология. С. 83–88.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 2: Филология
Иоанна Златоуста на Страстную и Пасхальную недели, Вознесение Господне, Вербное воскресение, на Великую пятницу и Великий четверг, а также Чтение Андрея Критского на Лазареву субботу, Слово Ефрема Сирина, содержащее Повесть об Авраамии, и другие церковно-учительные переводные тексты, в филологическом отношении изучены пока недостаточно.
Переводная литература способствовала развитию в Древней Руси ряда оригинальных церковно-книжных жанров: поучений, житий, слов-проповедей, акафистов, церковных песнопений и др. Вместе с переводной христианской литературой на Русь были перенесены способы и приемы византийского риторического искусства, средства художественно-образной системы, приемы изображения внутреннего состояния христианских подвижников. Этот опыт послужил основой для развития церковно-книжной поэтики, обогащения лексической и стилистической синонимии, словообразования, формирования книжных речевых жанров древнерусского языка.
Как пишет Д. С. Лихачев, древнерусские книжники-«переводчики» и переписчики вносили в эти переводы добавления, разъяснения, иногда сокращали содержание памятника или вставляли целые куски из других произведений. Основная цель данных изменений состояла в том, чтобы церковнославянский перевод точно давал отсылку к соответствующим фрагментам славянской Библии. Тонкий слой традиционных жанров, перенесенных на Русь из Византии и Болгарии, изменялся также и под влиянием острых потребностей древнерусской действительности [2004. С. 297].
Переводческая деятельность формировала древнерусский книжный корпус не только для обеспечения богослужения, но учитывала потребности читателя приобщиться к богатому христианскому наследию. Вместе со сборниками поучений и проповедей на Русь перешли разного рода толкования книг Священного Писания, особенно широко распространялись толковые Псалтири, духовные азбуковники. Далеко не каждый человек в Древней Руси понимал философско-религиозный смысл того или иного события Священной истории, и переводная церковно-учительная литература призвана была помочь осознать и духовно пережить сакральный смысл этих событий, донести его до читателя. Именно эту задачу ставили перед собой древнерусские книжники, обращаясь к Словам Иоанна Златоуста как к образцу жанра проповеди. Слова-проповеди, или поучения, имеют целью донести до слушателя (читателя) богословский смысл того или иного события Священной истории. Древнерусские книжники «учитывали» неопытность читателя этого времени. Названия произведений начинались с обозначения жанра, краткого сообщения о том, что говорит то или иное произведение, например: «Слово Ioана Златоустаго о глаголющих, яко несть мощно спастися живущим в мир» [УС, 1971] . Традиционность художественного выражения настраивала читателя или слушателя на нужный лад. Сюжет и содержание были узнаваемы. Те или иные традиционные формулы, жанры, темы служили сигналами для создания у читателя определенного настроения. Переводная литература служила воспитанию в Древней Руси духовно образованного читателя с развитым чувством церковно-книжного слова и стиля. Среди жанров переводной византийской литературы жанр Слова-проповеди пользовался особенной любовью. Он активно развивался древнерусскими книжниками, которые опирались на образцы «слов»-проповедей Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Ефрема Сирина и других выдающихся учителей христианской церкви. Древняя Русь впитывала этот опыт и училась построению не только церковной проповеди, но создавала на основе этого опыта образцы высокой поэтики в «Слове о полку Игореве», «Слове о погибели земли Рязанской». Среди переводной литературы Древней Руси XI–XIII вв., наряду с произведениями лучших древнехристианских и византийских авторов, наибольшей любовью пользовались сочинения Иоанна Златоуста. В Успенском сборнике XII– XIII вв. находятся 24 Слова, принадлежащие Иоанну Златоусту или приписываемые ему, среди которых «Стаго Иоана оця нашего Златоустааго слово на вьрбьницю». Обращаясь к анализу «Слова Иоанна Златоуста на Вербное воскресение», необходимо отметить, что «слово» как жанр проповеди имеет целью донести до слушателя (читателя) богословский смысл определенного события Священной истории, связать события Священной истории с жизнью каждого человека, раскрыть их отношение к устроению его духовной жизни. Слова учили древнерусского читателя широкому видению, умению за случайным и преходящим угадывать нечто значительное и «вечное». Слова-пропо- веди произносятся в церкви, поэтому их композиция и художественно-образный строй нацелены на воздействие звучащего слова. Это сказывается в ритмическом построении, рифме, многочисленных обращениях к слушателю, в обилии ораторских оборотов. При крайней сжатости, экономии выражения тексты Слов очень богаты образным содержанием, прообразованиями, ссылками на книги Ветхого Завета и Нового Завета. Сложная образная система, передаваемая экономными лексическими и синтаксическими средствами, свидетельствует о том, что за спиной переводчика – древнерусского книжника – стоит длительная византийская культурная традиция, потому что в «слове» сконцентрирован целый ряд философско-богословских идей, которые в образной форме доносятся до слушателя (читателя), воздействуют, в первую очередь на его эмоционально-эстетические чувства, вызывая религиозные переживания. Содержание каждого из «Слов св. Иоанна Златоуста» определено уже в его названии: «Стаго Iwана wцa нашего златоустааго слово на вьрбьни-цю» [УС, 1971. 233г, 30]. «Стаго оцa нашего Iwана златоустааго слово о блудьници въ великую средоу» [Там же. 201в, 30]; «Iwана златоустаго слово въ великыи въторьникъ и о събьрании събора на га и глаахоу чьто сътворимъ» [Там же. 188а, 15]. Как видим, в названии Слова указывается не только на его содержание, но и на повод его произнесения – в связи с православным праздником, евангельским событием, в день памяти мученика, в определенные дни Великого поста или в связи с последованием церковного календаря. В «Слове на вербницу» автор в соответствии с книжной традицией, обращаясь к читателю и приготовляя его к чтению, пишет: «…и мы възлюблении оуго-тованъмь ср7дцьмь и оушима добрh слыша-щема, слышимъ чьто възглеть къ намъ г7ь б7ъ въ пророцh и въ еуанг7ли"хъ о ст7hмь праздьницh семь» [Там же. 234а, 30]. Слушатель (читатель) настраивается прежде всего на слово Евангелия, а автор скромно остаётся в тени, будучи лишь средством передачи слов Бога и пророков. Обращаясь к своим слушателям, Иоанн Златоуст в Слове постоянно прибегает к евангельским текстам, на основе которых строится развёрнутый образ – символ: «въ ризъ место с7рдца# свои просыплемъ предъ нимь» [Там же. 234в, 10]. В Евангелии от Луки: «Идuщu же емu, постилахu ризы своя# по пuти» (Лк., 19 : 36). В Евангелии от Марка: «Мнози же ризы сво#я постилаша по пuти, дрuзіи же ваїа резахu ^ древї# и постилахu по пu-ти» (Мк., 11 : 8). Событие Священной истории – Вход Господень в Иерусалим сопровождалось ликованием народа, видевшего в Иисусе Христе мессию, который освободит Израиль от ненавистного Рима. Люди резали ветви деревьев и устилали ими дорогу перед Христом, некоторые стелили свои одежды, «глаголюще: wсанна благословенъ гр#ядый во имя# г7дне» (Мк., 11 : 49). Высокий образ-символ любви и жертвенности создаётся на основе переноса материальных деталей евангельского события в духовную область: вместо одежды и ветвей автор Слова призывает постелить под ноги Христа свои любящие сердца. Использование глагола просыплемъ в соответствии с евангельским постилахu создаёт образ малой жертвы по сравнению с той жертвой, которую принёс Бог для спасения людей. Этот же приём создания образа-символа, отсылающего слушателя к евангельскому тексту, можно видеть и в следующем случае: «иногда бо симеwнъ старець съретъ сп7са и на руце приятъ бhхомъ творьц# акы младенища и г7а и б7а проповеда ныне же в старьц#ь место несъмыи дети съретоша сп7са акы симеwнъ и ваiя въ руку место постьлаша» [Там же. 237а, 30]. В отличие от предыдущего примера здесь кратко изложено евангельское событие – Сретение Господне, чтобы провести сопоставление встречи старца Симеона с Младенцем Христом и встречи детьми Христа перед Входом Господним в Иерусалим. Ветки финиковых пальм сравниваются с рукой старца Симеона, принявшего на свои руки Христа и благословившего его как Спасителя мира. Образ детей в приведенном примере опирается на ветхозаветные слова псалмопевца царя Давида: «из оустъ младенищь и съсоущихъ съвьрьшилъ еси хвалоу» [Там же. 10], которые автор Слова произносит в своей проповеди. Так возникают интертекстуальные переклички Слова не только с текстом Евангелия, но и с Псалтирью, с Посланиями апостолов и с книгами ветхозаветных пророков. Многослойность образов-символов приучала древнего русича к самым высоким канонам византийского ораторства, к иносказательности, к отвлеченному мышлению, к изяществу языка, расчетливо учитывающего устное произнесение в церкви при большом стечении молящихся. В одном событии преломляется Священная история. Автор Слова как бы приглашает своих слушателей воспарить умом и сердцем, взглянуть на совершающийся праздник, как на своего рода вечное действо, существующее «ныне и присно». В основе поэтической лексики слов лежат привычные словесные ассоциации, но привычные не сами по себе, а в известной высокой ситуации – богослужебной или богословской. В проповеди автор стремится найти общее и вечное в частном, конкретном и временном, «невещественное» в вещественном, христианские истины во всех явлениях жизни. Этот принцип становится и принципом стилистическим.
Использование скрытых символов, как в приведенных выше отрывках из «Слова на Вербное воскресение», является результатом поиска тайных соответствий мира материального и духовного. По мнению Д. С. Лихачева, «символы вносили в литературу сильную струю абстрактности и по самому существу своему были прямо противоположны основным художественным тропам – метафоре, метонимии, сравнению и т. д., – основанным на уподоблении, на метко схваченном сходстве или чётком выделении главного, на реально наблюдённом, на живом и непосредственном восприятии мира» [1996. С. 80].
Особенностью художественной выразительности Слов является стилистическая симметрия: « Wссана сыну д7вдву благословл~нъ гр#ядыи въ им#я г7не. съ ними же въспоимъ и мы благословл~енъ иже отъ б7а б7ъ ц7срь славы обожавыи въ своихъ си безъ оубожьства сыi насъ дельма да насъ обогатить сво~ю блго-стию благословл~енъ пришьдыи въ съмерени~ » [УС, 1971. 237б, 10–15]. Сущность этой симметрии состоит в следующем: об одном и том же в сходной синтаксической форме говорится дважды; это как бы некоторая остановка в повествовании, повторение близкой мысли, близкого суждения, но о том же самом явлении. Мысль варьируется, но сущность её не меняется. Полной стилистической симметрии не бывает. Её члены никогда точно не соответствуют друг другу. Благодаря этой «неточности» восприятие произведения является до известной степени сотворчеством. Эта особенность стилистики связана с тем, что духовная, сакральная мудрость, далеко не вся, в представлении книжника, была доступна разуму. Эта её неполная открытость к пониманию создавала ощущение соприкосновения с вечным и непреходящим.
Другим важным элементом художественного стиля Слов является сравнение.
В целом, в древнерусской средневековой литературе сравнений гораздо больше, чем в литературе Нового времени. Например, в «Похвальном слове» Прп. Сергию Радонежскому даётся в одном случае сразу 35 сравнений. Сравниваются объекты мира материального и мира духовного. Сравниваются события и лица современной писателю истории с событиями и лицами Ветхого и Нового Заветов: « нъчати г7ви въ исповедании б7мь наученую пес7. яко же древл~е мwисеи изъ египта людьмъ. благословл~нъ гр#дыи въ имя# г7не » [Там же. 234г, 5]. Этим приемом автор помогает «правильно» осмыслять значение происходящего. Характерной особенностью является присутствие в сравнении элемента противопоставления: « пастухъ добрыи и благыи положити д7шю свою за овьц#я своя да яко же овьця# травима вълъ-къмь овьцею бо ал#чють ловьци сице раз-uмьныимь и д7шегубьныимь вълъкъмь себе си акы члв7ка положивъ стареишина пастви-не » [Там же. 238а, 20]. Мир земной и мир небесный, мир материальный и мир духовный не только сопоставляются, но и противопоставляются. Разделение мира на духовное и материальное, божественное и человеческое отражается в бинарности художественного мышления автора Слова, проявляющейся, в частности, антонимией добра и зла: « исто-выи на лъжааго, сп7съ на прокудника, миро-творьць на супротивьника ч7лвколюбьць на ненавистьника ч7лвкомъ » [Там же. 238б, 15]. Стилистическая симметрия, противопоставление, привычные словесные ассоциации, повторяемость образов создают своеобразный ритм Слова, его высокий эмоционально-экспрессивный тон. Иносказательные обороты и выражения приучали читателя Слов к отвлеченному мышлению, освобождали его от наивного представления об однозначности слова или выражения. С помощью художественных средств средневековый книжник-переводчик Слов Иоанна Златоуста сумел выразить основные духовные ценности своего времени.
Переводы Слов раннехристианских авторов служили школой для древнерусской церковно-книжной словесности. Уже в XI– XII вв. в Киевской Руси были созданы высочайшие образцы жанра Слова, о чем говорят «Слово о Законе и Благодати» киевского митрополита Илариона и «Слово на Пасху» Кирилла Туровского, дошедшие до нас.
Причем жанр Слова получил развитие не только в древнерусской богословской книжности, но и в светской словесности как тот самый «публицистический отклик» на древнерусскую действительность, к которой переводчики приспосабливали переводные тексты, авторски перерабатывая их (подробнее об этом см.: [Лихачев, 2004. С. 215]). Так постепенно вырабатывались церковнославянские каноны гомилетического жанра, впитавшие в себя искусство как переводных, так и оригинальных Слов Иоанна Златоуста, Григория Богослова и других отцов христианской церкви. Жанр Слова-проповеди активно развивался до начала XX в. Во второй половине XX столетия вновь возникла настоятельная потребность обратиться к бесценному наследию церковнославянской словесности в области православной гомилетики. Языковая составляющая этого наследия пока остается недостаточно исследованной. Среди работ, посвященных изучению этого наследия, можно назвать кандидатскую диссертацию Т. С. Борисовой, содержащую выделение и анализ системы богородичных символов церковнославянского языка [1998]. Описание системы художественно-выразительных средств византийских переводных гомилий, которые подвергались переработке славянскими переводчиками и включались в церковнославянские оригинальные тексты слов-проповедей, акафистов, Прологов, Торжественников, Постной и Цветной Триодей, является актуальным в связи с возросшим вниманием к истории церковнославянского языка и его функционированию. Особый интерес представляет дискурсивный подход к анализу особенностей слога гомилий отцов христианской церкви, сочинения которых стали школой формирования традиций церковнославянской словесности. С этой целью обращение к текстам Слов Иоанна Златоуста, находящихся в Успенском сборнике XII– XIII вв., может стать отправной точкой в изучении культурно-исторического наследия церковнославянской словесности.
FROM THE «ASSUMPTION MISCELLANEA» (XII–XIII CENTURIES) AS A SCHOOL OF CHURCH-SLAVONIC LITERATURE
Список литературы Слова Иоанна Златоуста в Успенском сборнике XII-XIII веков как школа церковнославянской словесности
- Борисова Т. С. Система символов оригинальных и переводных церковнославянских богородичных гомилий и акафистов: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 1998. 16 с.
- Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников: Моногр. М.: Наука, 1976. 367 с.
- Лихачев Д. С. Введение к чтению памятников древнерусской литературы: Моногр. М.: Рус. путь., 2004. 340 с.
- Лихачев Д. С. Поэтика литературы // Бычков В. В., Лихачев Д. С., Бусева-Давыдова И. Л., Бондаренко И. А. Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI-XVII вв. М.: Ладомир, 1996. 560 с.
- Успенский сборник XII-XIII вв. М.: Наука, 1971.