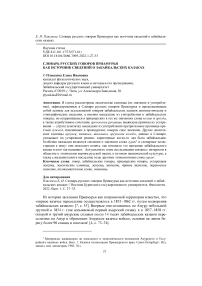Словарь русских говоров Приамурья как источник сведений о забайкальских казаках
Автор: Пляскина Елена Ивановна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены лексические единицы (их значение и употребление), зафиксированные в Словаре русских говоров Приамурья и представляющие собой ценные для исследований говоров забайкальских казаков лингвистические и этнографические сведения, а именно вышедшие из употребления в забайкальских говорах, но сохранившиеся в приамурских в тех же значениях слова козляк и орогда, а также атрибутивное сочетание орочонские рукавицы (выявлена причина их устаревания - утрата денотата); вышедшее из употребления презрительное прозвище крестьян гужеед, изменившее в приамурских говорах свое значение. Другие лексические единицы аргунец, читинка, шилкинка, аргунские колоба, данные в Словаре, указывают на устаревшие реалии, характерные когда-то для быта забайкальцев. Особенно важными являются сведения о значении слова гуран2 и словарные иллюстрации к нему: они помогают понять, как возникло это прозвище забайкальского казака и кого так называют. Актуальность темы исследования связана с интересом в обществе к этническим корням русской нации, к истокам национальной культуры, а также с выдвинутыми в последние годы другими этимологиями слова гуран2.
Говор, забайкальские говоры, приамурские говоры, устаревшая лексика, лексические единицы, лексема, значение, прямое значение, переносное значение, полисемантичное слово, омонимы
Короткий адрес: https://sciup.org/148324333
IDR: 148324333 | УДК: 811.161.1'373(571.61)
Текст научной статьи Словарь русских говоров Приамурья как источник сведений о забайкальских казаках
Пляскина Е. И. Словарь русских говоров Приамурья как источник сведений о забайкальских казаках // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 1. С. 27‒33.
Из истории заселения Приамурья как пограничной территории известно, что «первое казачье переселение осуществлялось в 1855–1862 гг. путем водворения забайкальских казаков» [7, с. 55]. Впервые они сплавились по Амуру небольшой группой в 1854 г. (так называемый первый амурский сплав), а в 1857–1858 гг. (второй и третий амурские сплавы) около 14 тысяч забайкальских казаков переселились на Амур и образовали Амурское казачье войско, основав на левом берегу более 90 станиц и поселков1 [4, с. 73–74].
На новых землях забайкальские казаки, ставшие амурскими, сохранили культурные и языковые традиции, чему способствовало сходство социальных и природных условий жизни. Многое из того, что принесли они с собой, живо в современных амурских говорах старожилого населения по верхнему и среднему течению реки Амура и зафиксировано в Словаре русских говоров Приамурья, составленном учеными Хабаровского государственного педагогического университета Ф. П. Ивановой и Л. Ф. Путятиной и учеными Благовещенского государственного педагогического университета Л. В. Кирпиковой, О. Ю. Галуза и Н. П. Шенковец [16]. Поэтому данный лексикографический труд может служить источником сведений самого разнообразного характера о забайкальских казаках и их говорах.
В Словаре представлены слова и словосочетания, указывающие на реалии, когда-то бытовавшие у забайкальских казаков, например, аргу́нские колоба́ у аргунских казаков — «блины из просяной муки» ( Несложно печь аргунские колоба, их еще называют просяночки ) [16, с. 22]. В XX в. более распространены были колоба из гречневой муки или из пшеничной с добавлением гречневой, и в наше время их еще готовят, а в Балейском районе, хотя и довольно далеком от Аргуни, пекут блины из пшена (пшено делают из проса): Угощайтесь колобами со пшенки на сыворотке, они скусные [11, с. 89].
Другими примерами являются названия лодок, тоже появившиеся, скорее всего, в приамурских говорах, когда различные виды лодок, привезенные забайкальскими казаками, нужно было как-то именовать; в рассматриваемом случае они получили наименования по месту изготовления: на берегах Аргу́ни, Читы́ (Чити́нки) или Ши́лки, рек, протекающих в Забайкальском крае: аргу́не́ц — «берестяная лодка» ( Рыбачили мы летом в аргунцах и читинках ) [16, с. 22]; чити́нка — «разновидность местной узкой длинной лодки», в словарных иллюстрациях дано подробное ее описание: Читинка из мелких досок, как из реек, в длину две сажени, в читинку входило пять-шесть человек. Они большие и удобные; Вчерась читинку кончил делать. Человек пять-шесть поместится [16, с. 500]; шилкинка — «то же, что читинка»: У шилкинки кормы нет. В шилкинке по пять-шесть человек садилось [16, с. 509].
Словарь содержит лексику, устаревшую и уже неизвестную в забайкальских говорах, очевидно, в связи с выходом из употребления тех реалий, которые она называет, например, козляк и орогда; эти лексические единицы (ЛЕ) обозначают предметы одежды охотника. Козляк — «короткая шуба из шкур дикой козы мехом наружу»: Козляки шили из козьих шкур, шерсть наружу; Козляк и доха — большая разница. Козляки коротки были; Мужики козляки носили; я в козляке на охоту ходил. Теплый он; Козляк короткий такой, а дохи длинны, у козляка ворот небольшой, а у дохи целая козлинка уходила; Козляк до колен, как сечасная шуба [16, с. 193]. Орогда — «меховая охотничья шапка, сшитая из шкуры, снятой целиком с головы дикой козули. Сохраняются уши животного и прорези на месте глаз»: Козулю снимут с рогами, со всем — вот тебе и орогда; Шили орогды, снимали кожу с головы козла, пришивали уши, а для детей — с рогами; Орогды шили, шапки из головы козьей; У мужчин шапки эти были — орогды, орогдами называли. С ушами наденет, как козуля; На охоте дед коз скрадывал в орогде;
Орогды шили, это из козы, носят в основном охотники, чтобы коза не убегала [16, с. 298].
Эти ЛЕ активно использует А. А. Черкасов — горный инженер и заядлый охотник, служивший в Нерчинском горном округе с 1855 по 1871 гг. и описавший свою охотничью жизнь в очерках, опубликованных под общим названием «Из записок сибирского охотника» [19]. Собираясь на охоту, он, как и казаки-охотники, со многими из которых он был в дружеских отношениях, надевал козляк и орогду (и научился их шить, долгое время живя в Бальджиканском карауле): «… а на голове козья охотничья шапочка ( орогда , как здесь называют)» [19, с. 17]; «Я машинально отклонил голову, отбивал левой рукой в грудь зверя и не мог его отбросить, так сильно уцепился он ужасными когтями за мой продымленный козляк » (в сноске автор поясняет: за Байкалом козляки и овчинные шубы всегда дымят над аргалом (зажженные конские шевяки), отчего мездра пушнины получает красивый темно-желтый цвет и не боится мокра. Дымятся всегда несшитые шкурки») [19, с. 178]. Надо заметить, что у охотника А. А. Черкасова козляк был сшит мехом внутрь, а продымленной мездрой ( мездра — «внутренний сторона кожи или шкуры» [17, т. 2, с. 246]) наружу, как и все русские шубы (обычно их сверху покрывали тканью, а за Байкалом в связи с дефицитом ткани шкуры дымили); очевидно, шили козляки как мехом наружу, так и внутрь.
Рассматриваемые ЛЕ бытовали в забайкальских говорах еще середине XX в., что подтверждает Словарь русских говоров Забайкалья Л. Е. Элиасова, в котором зафиксирован фонетический вариант ЛЕ орогда — арогда с тем же значением; кроме ссылки на А. А. Черкасова, дана только одна словарная иллюстрация, записанная в юго-восточном Забайкалье — в селе Кокертай Сретенского района в середине XX в.: Медвежонок был маленький, он его в арогде принес [20, с. 56]. ЛЕ козляк представлена как одежда из козьих шкур со словарной иллюстрацией В етом козляке хоть зимой в тайге ночуй, не замерзнешь , записанной в селе Чара Каларского района Читинской области в 1939 г. [20, с. 159].
Устаревшим в забайкальских говорах является название меховых (обычно из козьих шкур) охотничьих рукавиц с разрезом на ладони — орочонские рукавицы: Козляки шили, дохи, шили орогды, орочонские рукавицы; Орочонские рукавицы — козлины, до локтей, с прорезью у ладони. Отец на охоту орочонские рукавицы носил. Орочонские рукавицы — дырочка ниже напалка, сюды напалок. Сама рукавица с козулятины, с козьей шкуры [16, с. 298]. Слово орочон (орочен) эвенкийского происхождения и является самоназванием эвенков, имеющих оленей, оленеводов (от орон — олень (домашний)) и живущих к востоку от Байкала [1, с. 107]; более распространенное название эвенков в XVII-XIX вв. и начале XX в. — тунгусы. По свидетельству историка А. П. Васильева, в Забайкалье крещеные представители этого кочевого народа в второй половине XVIII в. вступали в казачьи полки и охраняли границу вместе с русскими и бурятскими казаками; например, «в 1784 г. всего казаков на границе было 1458 человек, из них 900 русских, 305 тунгусских и 253 бурятских» [2, с. 2]. Тесно общаясь с инородцами (как называли до революции местное население), русские перенимали у них многое, так как «заброшенные судьбой в такую местность, где встречался совершенно новый характер природы и климата, лишенные опоры в русском соседстве, эти поселенцы поневоле прибегали к тем средствам существования и к тому складу быта, кото- рый находили у туземцев» [13, с. 432]. А рукавицы с прорезью (или отверстием) на ладони были очень удобными, особенно для охотников: во время прицеливания позволяли высунуть только указательный палец и не морозить руку, да и поводья в таких рукавицах держать удобнее. В некоторых забайкальских говорах (борзинских) сохранилась заимствованная из бурятского языка лексема туру́ны (бур. туруун — «меховой манжет, пристегиваемый к рукаву» [18, с. 437]), которая и обозначает подобные рукавицы — с открытой ладонью: Тугуны — это бурятские рукавицы с отрытой ладошкой, чтоб ловче поводдя держать. Кто на конях-то ездит, вот туруны одеват [11, с. 169].
Очень важными являются данные Словаря русских говоров Приамурья о значении слова гуран2 и производных от него ЛЕ гуранка, гуранский, гуранские и гуранье; омонимы гуран1 и гуран2 появились в результате распада полисемантичного слова гуран, заимствованного в прямом значении из бурятского языка ( гу-ра/н/ — «самец косули (в период, когда у него опадают рога)» [18, с. 160]; гурееЬэ/н/ — «дикая коза, косуля» [18, с. 166]; переносное же значение появилось в говорах русских казаков-забайкальцев. И надо заметить, что в некоторых других лексикографических источниках связь лексико-семантических вариантов этого слова сохраняется [15, с. 110; 11, с. 56].
Толкование значения ЛЕ гуран2 как прозвища жителя Приамурья, потомка русских переселенцев из Забайкалья, помогает современным забайкальцам разобраться в том, кто такой гуран . В советское время в связи упразднением казачества она устарела и употреблялась редко, но с возрождением Забайкальского казачьего войска в 1990-м г. вновь стала востребованной, актуальной, появились даже новые производные — имена собственные Гураныч и Гурания [12, с. 148]. Только, к сожалению, значение ее исказилось в языковом сознании многих забайкальцев (по результатам опросов), в том числе и краеведов: они считают, что гураны не столько казаки, сколько потомки от смешанных браков русских с бурятами или тунгусами, то есть отождествляют ЛЕ гуран и карым [9]. Слово ка-рым , появившееся еще в XVIII в. и зафиксированное в Словаре В. И. Даля, является русским фонетическим вариантом монгольского харым («чужой, инородный» [6, с. 5]) и обозначает не только крещеного бурята, но и метиса, или «смесь русского и бурятки, тунгусски» [5, т. 2, с. 95], то есть потомка от браков пришедших в Прибайкалье и Забайкалье русских казаков с местными девушками. Слово это, точнее его лексема, к началу XXI в. уже настолько устарело, что почти не известно носителям говоров, а значение перешло к слову гуран , вытеснив в языковом сознании части забайкальцев исконное переносное значение.
Видимо, этому способствовала и утрата таких предметов одежды забайкальца-охотника, как козляк и орогда , потому что носители приамурских говоров, сохранившие их, связывают появление прозвища гуран именно с ними: А казаков так звали — гуранами, потому что они, когда на охоту соберутся, одеваются, как козел, чтобы дичь не спугнуть. Одевают козляк, унты и орогду ; За че казаков называли гураны: оне ведь о́рогды носили гураньи. Прозвишше и сделали гураны ; Гуран — это казак, привадное имя (прозвище) было [16, с. 108]; Наденет орогдашку, ну и прилепили [прозвище] гуран [16, с. 298].
Представленные в Словаре многочисленные контексты употребления слова гуран2 не оставляют сомнений в том, что это — прозвище, которое появилось на основе метафорического переноса наименования дикого козла — гурана — на охотника в одежде, сшитой из гураньих шкур (особенно, думаю, впечатляла орогда; даже рисунок этой шапки, данный в Словаре [16, с. 523], как и многих других предметов одежды, обуви, быта, плотничьего дела, рыболовства и т. д., что очень ценно в наше время, удивляет (надо же придумать!) и поражает). Это — прозвище русских казаков в Забайкалье (Гуран — это чисто русский, переселенец из Забайкалья [16, с. 108]), которое они привезли на Амур и передали по наследству своим детям (Он гуран дамнишний: на Амуре родился [16, с. 108]); и оно никак не связано с национальной принадлежностью. Это подтверждают и данные «Материалов к словарю русских говоров Бурятии»: гуран — «прозвище забайкальских казаков-старожилов, носивших гураньи шапки» [8, с. 71]. Следовательно, и родственные ЛЕ гуранка и (неодобр.) гуранье в забайкальских говорах тоже являются прозвищами, а прилагательное гуранский обозначает все, относящееся к гуранам, в наше время — потомкам казаков и коренным забайкальцам [11, с. 56].
Устарела и вышла из употребления в забайкальских говорах, но сохранилась в памяти жителей Приамурья пренебрежительная ЛЕ гужее́д , имеющая значение «прозвище переселенца из Вятской губернии»: Прозвища тут разны давали: и гужееды, и водохлебы. Гужеедами вятских переселенцев называли [16, с. 107]. Эта ЛЕ в более широком значении «крестьянин» употреблена в романе К. Ф. Седых «Даурия»; описывая жизнь забайкальских казаков до революции и затрагивая тему неприязненных отношений между ними и крестьянами, автор пишет, что казаки дразнили крестьян при встречах «жерновами» и «гужеедами» [14, с. 131]. И в конфликтной ситуации крестьянин обратился к казаку, назвав его гураном проклятым , а казак подосадовал: «Вот гужеед драный. Он так и впрямь уйдет» [14, с. 134]. Прозвище казаков использовалось крестьянами как ругательное, что зафиксировал этнограф и филолог А. П. Георгиевский, слышавший его повсеместно в Забайкалье еще в 20-е г. XX в. [3, с. 25]. И в Приамурье крестьяне окрашивали его отрицательными эмоциями, что можно понять из контекстов: Местное население было казачество, гуранами называли как прозвище. Некоторые принимают как оскорбление, сердятся, недопонимают; Я сама гуранка, здесь родилась, меня гуранкой так и зовут, я не обижаюсь; Гуранье богаты были, кресьяны их не любят [16, с. 108]. Причина устаревания этой ЛЕ — изменившиеся социальные условия жизни забайкальцев: в 30-е гг. XX в. и казаки, и крестьяне стали колхозниками с равными правами, и сословная неприязнь постепенно сошла на нет.
Таким образом, Словарь русских говоров Приамурья содержит как лингвистические сведения о говорах забайкальских казаков, так и этнографические — о них самих и их культуре.
Список литературы Словарь русских говоров Приамурья как источник сведений о забайкальских казаках
- Василевич Г. М. Эвенкийско-русский словарь. Москва: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1940. 216 с. Текст: непосредственный.
- Васильев А. П. Забайкальские казаки: исторический очерк: в 3 томах. Чита: Типография Войскового хозяйственного правления Забайкальского казачьего войска, 1916. Приложение ко 2-му т. 91 с. Текст: непосредственный.
- Георгиевский А. П. Русские на Дальнем Востоке. Русские говоры Приморья. Владивосток: Типография Гос. Дальневост. ун-та, 1928. Вып. 3. 95 с. Текст: непосредственный.
- Голик А. А. Государственная политика России в отношении дальневосточного казачества в 1851–1917 гг.: диссертация на соискание ученой степени кандидада исторических наук. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2015. 209 с. Текст: непосредственный.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва: Русский язык, 1978. Т. 1–4. 942 с. Текст: непосредственный.
- Дамдинов Д. Г. О предках Гантимуровых (титулованных князей и дворян по московскому списку). Чита: ЦНОП, 2005. 95 с. Текст: непосредственный.
- Лазарева С. И., Сергеев О. И. Поселения 1879 года в Уссурийском казачьем войске (к 130-летию со времен основания) // Казачество Дальнего Востока России в 17–21 веках: к 120-летию Уссурийского казачьего войска. Хабаровск, 2009. С. 55–62. Текст: непосредственный.
- Майоров А. П., Болсохоева А. Д. Материалы к словарю русских говоров Бурятии // Русские народные говоры Забайкалья (лексикография, лексикология). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1995. С. 63–99. Текст: непосредственный.
- Мищенко А. Карымы // Забайкальский рабочий. 2002. № 64. 6 апр. С. 5.
- Пляскина Е. И., Игнатович Т. Ю. Материалы к словарю русской народно-разговорной речи Забайкалья. Казань: Бук, 2019. 182 с. Текст: непосредственный.
- Пляскина Е. И. Историко-этнографический очерк диалектного слова гуран // Язык в различных сферах коммуникации: материалы международной конференции (г. Чи-та, 20–21 сентября 2019 г.). Чита: Изд-во ЗабГУ, 2019. С. 145–154. Текст: непосредственный.
- Пыпын А. Н. История русской этнографии. Белоруссия и Сибирь. Санкт-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. Т. 4. 488 с. Текст: непосредственный.
- Седых К. Ф. Даурия. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1975. 431 с. Текст: непосредственный.
- Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья / под редакцией Т. Б. Юмсуновой. Новосибирск: Изд-во СО РАН, Научно-издательский центр ОИГГМ СО РАН, 1999. 560 с. Текст: непосредственный.
- Словарь русских говоров Приамурья / авторы-составители О. Ю. Галуза, Ф. П. Иванова, Л. В. Кирпикова [и др.]. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. 2-е изд., испр. 542 с. Текст: непосредственный.
- Словарь русского языка / под редакцией А. П. Евгеньевой. Москва: Русский язык, 1981. Т. 1–4. 698 с. Текст: непосредственный.
- Черемисов К. М. Бурятско-русский словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1973. 840 с. Текст: непосредственный.
- Черкасов А. А. Из записок сибирского охотника. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1987. 576 с. Текст: непосредственный.
- Элиасов Л. Е. Словарь русских говоров Забайкалья. Москва: Наука, 1980. 472 с. Текст: непосредственный.