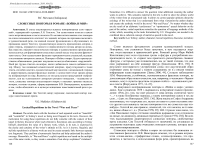Словесные повторы в романе "Война и мир"
Автор: Мехтиев Вургун Георгиевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются аспекты повторяющихся слов «красивый», «прекрасный» в романе Л.Н. Толстого. Эти слова можно отнести к самым часто встречающимся в тексте писателя. Но мотивы использования этих повторов не совсем вписываются в контекст тех заданий, которые они призваны выполнять в художественной речи, где каждый элемент функционален и обусловливает, по признанию самого Толстого, художественную ценность произведения, которая, в свою очередь, отражается в ясности и определенности взгляда автора на жизнь. Как известно, языково-стилистические повторы в художественном произведении используются для формирования смысловых связей между отдельными фрагментами текста. Они осуществляют функцию герменевтических указателей, ведущих к постижению авторского замысла. Повторы в «Войне и мире», будучи преимущественно обнаженными, рождают ощущение не всегда объяснимых «нарушений». Иной раз трудно ответить на вопрос, какого добавочного смысла добивается автор. Между тем названный семантический материал, присутствующий в ткани текста, способен осветить художественный мир писателя с неожиданной стороны и корректировать распространенные мнения о ценностной точке зрения автора на изображенный им мир. Являются ли они результатом продуманной «небрежности», или же «спонтанного» авторского речевого поведения, - независимо от этого, словесные повторы актуализируют вопрос о языковых приемах писателя, которые, согласно задачам, сформулированным В.В. Виноградовым, нуждаются в том, чтобы объединить их в цельную концепцию повествовательной речи в романе.
Лев толстой, автор, персонаж, лексический повтор, дискурс, повествование, прием
Короткий адрес: https://sciup.org/149127207
IDR: 149127207 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00097
Текст научной статьи Словесные повторы в романе "Война и мир"
Слово является фундаментом создания художественной модели. Повторяясь, оно становится более заметным, в нем ощущается энергия, отсутствующая в практической речи. Римский ритор Марк Фабий Квинтилиан учил: если отдельные тропы и фигуры в употреблении воспроизводятся часто, то «теряют всю приятность разнообразия». Бывают «фигуры, с которыми уже познакомились мы до такой степени, что они едва удерживают на себе название фигур» [Квинтилиан 1834, 150]. В результате многократного употребления слова «его акустический образ утрачивает связь не только с планом содержания, но и с иными типами информации плана выражения» [Заика 2006, 44]. Согласно наблюдению Н.М. Фортунатова, устойчивые, неизменяющиеся фразовые повторы, не дополняющие образ новым смыслом, как, например, в чеховском «Черном монахе», могут служить средством создания особого - музыкального ритма в тексте [Фортунатов 1971, 14-25].
На кажущиеся неоправданными повторы в «Войне и мире» указано давно. Еще в рецензии 1870 г. выражалось возмущение языком произведения: «Речь его, там, где идет рассказ от лица автора, сплетается часто <...> в такие безобразные периоды, с таким повторением одних и тех же слов...» [цит. по: Виноградов 2003, 136]. Жена писателя Софья Андреевна воспоминала, что «спросишь его, нельзя ли такое-то слово поставить вместо другого или выкинуть частые повторения того же слова или еще что-нибудь». Толстой же, как правило, отвечал ей, что «это мелочи, не то важно, важно общее и т. д.» [Толстая 1978, 39]. Н.Н. Страхов тоже писал, что «Лев Николаевич твердо отстаивал малейшее выражение и не соглашался на самые, по-видимому, невинные перемены» [Страхов 1978,238]. Во всех этих высказываниях акцентируются словесные повторы, свойственные прозе классика. Сам Толстой отбивался от замечаний, не соглашался на устранение некоторых даже очевидных повторов в романе, которые казались немотивированными.
Словесные повторы в «Войне и мире» не остались без внимания отечественных филологов. В.В. Виноградов отмечал, что в романе встречаются «слова-маски», «трафаретные слова», «слова-прозвища», что проявляется, в частности, в использовании форм речи, ориентированных на
«интимно-кружковое экспрессивное осмысление» [Виноградов 2003, 162, 192]. В романе выделяли «аффективные зоны», представляющие «условно-светские штампы», существующие «в языке как готовый материал» [Щербак-Маймескул 1978, 57]. Наблюдение подтверждается примером, скажем, слова «прелесть», которое можно отнести к элементу «камерной» или «семейной фразеологии», «известной и употребляемой в узком кругу близких людей». Установлено, что в романе существительное «прелесть» употребляется в шестидесяти пяти случаях; прилагательное «прелестный» - сорок раз. Стилистический прием «создает атмосферу интимности, искренности и правдивости» [Ренская 1990, 38, 42]. Любопытно, что если в «Войне и мире» слова «прелесть», «прелестный» звучат в основном в репликах и диалогах персонажей, то, например, в «Анне Каренине» отмечается сложная связь между автором и оценивающим персонажем. Неоднократный повтор различных вариантов слова «прелесть» в сцене московского бала при описании Анны подготавливает формулу, данную через восприятие автора-повествователя: в женской обольстительности Анны одновременно было «что-то ужасное и жестокое». Замечание, которое, в свою очередь, связывает авторскую характеристику с субъективным переживанием Кити: «Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней» [Толстой 1928-1958, XVIII, 89].
К условно-светским штампам на определенном семантическом уровне относятся эпитеты «прекрасный», «красивый». Слова «прекрасный вечер», «красивые женщины», «красивый мужчина» в диалогах используют князь Ипполит, Соня, княгиня и графиня, Андрей Болконский и Пьер Безухов. Трудно определить, выходит ли за границы общих определений, например, следующее высказывание одного из главных героев романа: «- Моя жена, - продолжал князь Андрей, - прекрасная женщина...» [Толстой 1928-1958, IX, 35].
Уместно упоминание о наблюдениях П.П. Громова над образом Элен. Акцентируя декоративный, «игровой» характер ее красоты, он отмечал, что образ героини выполнен на «мелочностях»: красота ее сливается с «бальною робой, убранною плющом и мохом»; перед нами, по мнению исследователя, «генерализация», выступающая в органической связи с «мелочностью» [Громов 1977, 10, 15]. Против этих проницательных суждений трудно что-то возразить. Громов, с полным на то основанием, собирает в единство находящиеся относительно далеко друг от друга в текстовом пространстве детали, благодаря чему возникает нелинейное представление о персонаже. Но Толстой в описании Элен, при каждом упоминании о ней, порой необъяснимо применяет эпитет «красивый». Причем часто без подтекста, намекающего на искусственное происхождение ее красоты. В итоге создается ощущение, что исподволь происходит канонизация всего того, что касается высшей аристократии, несмотря на ее видимые недостатки.
Прилагательные «красивый», «прекрасный» во множестве примеров не характеризуют человека (предметы) в каком-то важном отношении; их повтор не приводит к возникновению подтекста, не создает сюжетно-тематические связи. Временами создается ощущение, что они носят спонтанный характер. Читатель «Войны и мира», если не прямо, то на ассоциативном уровне связывает образ дуба и фразеологию «дубина народной войны». Очевидно, что слова-метафоры «небо», «солнце», «шар», «глобус», «мир», встречающиеся в романе, взаимно освещаются ради порождения нового смысла. И что показательно, связь между ними не обусловлена частой их повторяемостью. Эти семантические единицы включены в определенные сюжетно-композиционные ситуации, поэтому они приобретают особую нарративную функцию, без которой полнота смысла произведения невозможна. Выявлено, что в романе «Война и мир» Толстой употребляет слово «подвиг» всего пять раз. В самом высоком, патриотическом смысле фактически в одном случае [Грачева 2014, 30].
Странным и необъяснимым кажется еще одно обстоятельство. Повторы слов вроде «красивый», «прекрасный» не претендуют на выражение индивидуальных особенностей внешности и психики персонажей. Эти прилагательные, присутствующие в романе в качестве «общих» определений, за редким исключением, касаются лишь поверхности явлений, словно наклеиваются на образ героя или предмет. Автор как будто целенаправленно создает «светоносный» колорит. Слова «красивый», «прекрасный» густо и автоматизированно появляются там, где их присутствие, вероятно, не оправдано, вступает в противоречие с общей эмоциональной атмосферой описания. Возникает естественная дилемма: употребляя с такой интенсивностью эти эпитеты, автор или находится во власти какого-то цельного впечатления, имеющего для него безусловный эстетический смысл, или же - в плену сплошной и безотчетной релятивности.
Не несущие видимую стилистическую функцию лексемы «красивый», «прекрасный» в «Войне и мире» фигурируют, если отвлечься от менее значительных фактов, в нескольких планах. О первом было сказано выше - он, как было отмечено, более всего соответствует тому, что называется «камерной фразеологией», выражающей автоматизированный характер словесного жеста в рамках светского этикета. Семантика речи повествователя и персонажа совпадают, здесь нет эффекта «двойного зрения»: «Ежели он [Пьер] когда-нибудь думал об Элен, то думал именно о ее красоте»; «Пьер <.. .> смотрел на ее <.. .> прекрасную грудь»; «Она видела и m-lle Bourienne с ее лентой и красивым лицом»; Борис <.. > успевал несколько раз оглядываться на <...> красавицу Элен, которая с улыбкой несколько раз встретилась глазами с красивым молодым адъютантом»; «Анатоль с страшным выражением на красивом лице оглянулся на княжну Марью» [Толстой 1928-1958, IX, 250, 261, 271, 282; X, 251, 262].
Но далее, особенно в описании Элен, слово «красивый» и его синонимы приобретают элемент драматизма: Пьер «видел не ее мраморную красоту, <.. > он видел и чувствовал всю прелесть ее тела» [Толстой 1928-1958, IX, 262]. Благодаря противопоставлению, выражения «мраморная красота» и «всю прелесть» интонационно выделяются и по принципу сти- диетической антитезы дополняют друг друга. Драматическая интонация ощущается во фразе, в которой появляется мотив молвы: «Через полтора месяца он был обвенчан и поселился, как говорили, счастливым обладателем красавицы-жены» [Толстой 1928-1958, X, 179]. Драматический модус достигает высшей точки в рассказе о том, что Элен в Эрфурте «имела блестящий успех» в качестве «красивой и элегантной женщины», что не удивляло Пьера; напротив, удивляло то, что за «два года жена его успела приобрести себе репутацию» [Толстой 1928-1958, X, 179]. Точка зрения повествователя становится опосредованной, она скрывается за «молвой», «слухами». Драматическая борьба происходит исключительно в мире героя, она не сообщается другим. Автор лишь изредка солидаризуется с героем, большей частью оставаясь в рамках собственной субъективной оценки героини или же смотря на нее глазами обитателей великосветского общества: «повернув свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен...»; «опять тем же тоном повторила красавица»; «красавица направилась к тетушке»; «указывая на отплывающую величавую красавицу» и т. д. [Толстой 1928-1958, IX, 18, 20, 249, 250]. Эпитеты «красивый», «прекрасный», доминирующие в образе Элен, часто даются в аспекте монологической, «автоматизированной» характеристики - или с точки зрения автора-повествователя, или же персонажа. И это порождает определенные трудности в интерпретации образа героини; ведь в отвлечении от драматического восприятия Пьера Безухова, во всем остальном слова «красивый», «прекрасный» выступают базовыми признаками ее образа; в плане фразеологии автор как будто придерживается единой с сопереживающей точкой зрения «других» на героиню. Может быть, такая характеристика объясняется писательским восприятием быта светского общества - выделить и показать среди «ничтожно-мелких, искусственных интересов» «простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу»? [Толстой 1928-1958, IX, 258]. Вероятно, также обстоит дело с характеристикой, например, княгини Веры, рассказывая о которой, Толстой несколько раз подряд награждает ее одним и тем же эпитетом: «красивая графиня Вера, улыбаясь...», «красивая Вера презрительно улыбнулась...», «глядя на свое красивое лицо...» [Толстой 1928-1958, IX, 52, 55, 56]. Особенно важна последняя деталь - ощущение красоты дается в его нераздельности с самосознанием собственно персонажа: «Борис <...> подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо» [Толстой 1928-1958, IX, 52]. Николай одновременно любуется «и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кички-рами» [Толстой, 1928-1958, XII, 18].
Кажется иной раз, что не содержащая в себе новизну характеристическая лексика овладевает писательской манерой Толстого, словно некая гипнотическая сила, заставляя его не замечать того, что исподволь она диктует ему использование почти однотипных синтаксических структур. Во втором томе о Пете сказано: «Петя был уже большой, тринадцатилетний, красивый, весело и умно-шаловливый мальчик» [Толстой 1928-1958,
-
X, 241]. Такова структура фразы и в третьем томе: «Петя был теперь красивый, румяный пятнадцатилетний мальчик» [Толстой 1928-1958, XII, 82]. Говоря о солдате, Толстой так же, как в случае с Петей, использует почти полный синтаксический повтор: «тонкая красивая фигура молодого солдата» - «молодой, красивый солдат» [Толстой 1928-1958, XII, 191]. В коротком эпизоде разговора Пьера с французским офицером дважды употребляется «красивое лицо офицера» [Толстой 1928-1958, XII, 374]. Нередки выражения вроде: «красивый старый человек», «весьма красивый курчавый мальчик», «красивые, твердые, верные звуки», «высокий, красивый, черноволосый унтер-офицер», «полный красивый черноволосый генерал», «красивый невысокий генерал» [Толстой 1928-1958, XII, 10,215,229, 255, 250, 76].
В последующих частях «Войны и мира» интенсивность эпитетов «красивый», «прекрасный» уменьшается. Слово «красивый» в первом томе встречается в семидесяти двух случаях; во втором - тридцати двух; в третьем - двадцати девяти; и, наконец, в четвертом - в семнадцати. Что же касается слова «прекрасный», то оно распределяется следующим образом: первый том дает примерно шестьдесят шесть случаев его употребления; второй - тридцать; третий - двадцать; четвертый - двадцать. Утрачивая видимую интенсивность, названные лексемы в действительности приобретают тотальный характер, соотносятся не только с ведущими героями, но и включают в свой круг самый разнообразный, даже случайный, эпизодический персонажный и предметный мир. В первом томе Толстой чаще всего внимателен именно к человеческому телу. Здесь и «высокий красавец», и «родинка над губой, очень красившая» младшую дочь Анны Михайловны; и поручик Берг, выпускающий дым «колечками из красивого рта»; и танцующее «строгое, но красивое лицо» графа и т. д. [Толстой 1928-1958, IX, 65, 71, 83, 192, 210, 235]. Начиная с конца первого тома, в употреблении этих слов исчезает иерархия. Слово «красивый» применяется к простому рядовому: «сухой и красивый солдат лет сорока». На равных правах по соседству располагаются фразы вроде «красивый звук одинокого выстрела» и «красивая, пестрая, с огромным вымем, корова»; люди «на прекрасных, выхоленных, свежих» лошадях; полковник, с радостью сообщающий о жертвах, при этом «звучно отрубая красивое слово наповал» (курсив автора - М.В.) [Толстой 1928-1958, IX, 147, 234, 169, 170, 172,214].
Позже Толстой в своем дневнике (1 октября 1892) написал: «Красота, радость, только как радость, независимо от добра, отвратительная». Таково было его убеждение и в пору создания романа «Война и мир», о чем свидетельствует вся совокупная художественная и нравственная концепция произведения. Факт этот, думается, только подтверждает необходимость более внимательного изучения языка и стиля великого создания классика. Повторы слов, смело используемые в романе «Война и мир», не поддаются какой-либо однозначной систематизации. Не всегда можно понять стилевые и эстетические мотивы, лежащие в их основе. Но, несмотря на это,

видно, что в известной степени они диктуют некие условия синтаксису писателя, существенно влияют на весь характер его художественной речи. Эпитеты «красивый», «прекрасный» - не единственный пример полного повтора в произведении писателя. Думается, анализ и научное осмысление подобного «речевого поведения» автора - серьезная задача, стоящая перед филологами. Без системного изучения их коммуникативной, грамматической и эстетической функции трудно сделать исчерпывающие научные обобщения о стиле Толстого, а также о языковой картине мира, отразившейся в его создании.
Список литературы Словесные повторы в романе "Война и мир"
- Виноградов В.В. О языке Толстого (50-60-е годы) // Виноградов В.В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. От Гоголя до Ахматовой. М., 2003. С. 117-220.
- Грачева Ж.В. Отражение отражений (Русская ментальность в зеркале языка Л.Н. Толстого) // Материалы Толстовских чтений 2013 г. и Гороховских чтений 2013 г. в Государственном музее Л.Н. Толстого. М., 2014. С. 29-33.
- Громов П.П. О стиле Льва Толстого. "Диалектика души" в "Войне и мире". Л., 1977.
- Заика В.И. Очерки по теории художественной речи. Великий Новгород, 2006.
- Квинтилиан Марк Фабий. Двенадцать книг риторических наставлений. Часть II. Кн. X. СПб., 1834.
- Ренская Т.В. Камерная фразеология в романе Л.Н. Толстого "Война и мир" // Особенности языка и стиля Л.Н. Толстого: Межвузовский сборник научных трудов. Тула, 1990. С. 37-43.
- Страхов Н.Н. Летом 1877 года… // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 1. М., 1978. С. 237-238.
- Толстая С.А. Моя жизнь. (публикация и подготовка текста И.А. Покровской и Б.М. Шумовой) // Новый мир. 1978. № 8. С. 34-134.
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1928-1958.
- Фортунатов Н.М. Музыкальность чеховской прозы // Филологические науки. 1971. № 3. С. 14-25.
- Щербак-Маймескул Е.А. Французские элементы в повестях и рассказах Л.Н. Толстого // Язык и стиль Л.Н. Толстого (республиканский сборник). Тула, 1978. С. 55-66.