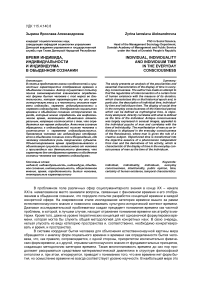Слово, язык и коммуникация в социальной философии С.Л. Франка
Автор: Логинова Елена Геннадьевна, Гвоздева Елена Николаевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению феноменов слова, языка и коммуникации в философии русского религиозного мыслителя периода духовного ренессанса С.Л. Франка. Исследование ставит своей целью дать комплексный анализ социокультурных оснований языка и общения, раскрыть сущность и значение категории «мы» в предложенной Франком социальной концепции, показать своеобразие взглядов философа в интерпретации актуальных философско-лингвистических проблем. Авторы акцентируют внимание на принципиальных различиях в постановке и решении проблем коммуникации между западноевропейской философией и русской философской традицией, в духе идейного наследия которой происходит утверждение недоступного простому логическому анализу глубинного метафизического смысла слова. Принцип соборного единства, ключевая категория русской философии, объясняет подход С.Л. Франка к исследованию природы слова, языка и общения.
Слово, язык, коммуникация, диалог, метафизика слова, соборность, русская религиозная философия, логос, с.л. франк
Короткий адрес: https://sciup.org/149134922
IDR: 149134922 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2021.3.5
Текст научной статьи Слово, язык и коммуникация в социальной философии С.Л. Франка
В проблемном поле различных сфер социогуманитарного знания в конце ХХ – начале ХХІ в. немаловажное место занимали вопросы, связанные с феноменом времени и его отображением в обыденном сознании, что породило попытки разработок концепций времени в каждой конкретной сфере. На современном этапе исследование категории времени вышло за рамки естественнонаучного знания и позволило осваивать культурно-исторический контекст времени. Диапазон исследовательской проблематики создал прецедент понимания времени как частной проблемы, в которой, в лучшем случае, находит отражение понимание времени как атрибута материи. Кроме того, даже на уровне теоретических концепций нет однозначной формулировки времени, которая могла бы служить общей методологией для конкретных наук. В свою очередь, нельзя упускать из виду категорию пространства и, соответственно, необходимо конкретизировать и время, и пространство.
В системе координат бытия человека для объяснения естественнонаучной картины мира обращаются к анализу форм социального времени и времени как определенности бытия человека, что, как правило, сопровождается, с одной стороны, приоритетом исключительно физических форм времени, а с другой, отрывом частнонаучного знания от фундаментальных принципов, создающих методологию категории времени. Такая многоплановость времени до сих пор продолжает раскрываться средствами материалистической диалектики в структуре философской онтологии и, при этом, игнорируется, приводит к пониманию того, что вне времени нет форм бытия, но осмысление времени не всегда соответствует уровню научности. В наибольшей мере это касается разнообразных форм бытия человека, которые находят свое отражение в обыденном сознании и общественном мнении как его элемент и обусловливаются типом деятельности и социально-экономическими отношениями, уровнем культуры, психологическими состояниями, способом мышления и т. п. Зачастую такие описания не выходят за рамки обыденного (бытового, повседневного) толкования времени. Сам же человек рассматривается настолько абстрактно, как человек «вообще», что все его идеальные начала растворены в формах протекания культурно-исторических процессов и предметно-чувственной деятельности, в которых он предстает как условие, фактор, «живое бытие труда» и т. д. Наряду с этим, исследование проблем социального времени и времени как формы определенности бытия человека настолько погружено в его личные переживания, что за ними не просматривается человек как таковой.
В свою очередь, актуальность исследования сущности и тенденций развития обыденности вообще и обыденного сознания в частности вызвана отражением сущностных характеристик бытия путем упрощения, стандартизации картины мира, игнорируя при этом иррациональный уровень познания, что компенсируется обыденным сознанием, отражающим мир во всем его многообразии, динамике, наполненным индивидуальностью.
Интенциональность обыденного сознания заключается в его способности отражать и преобразовывать мир, детерминированный как индивидуальными особенностями и субъективными возможностями человека, так и социумом, что соответствует эмпирическому уровню познания. Имея дело с повседневными отношениями между вещами и людьми, обыденное сознание обладает значительным эвристическим потенциалом. Преодолеть возникшие противоречия представляется возможным посредством применения традиции философского и научного анализа темпоральности в ракурсе обыденного сознания человека через такие его ипостаси как индивид, индивидуальность, индивидуум, в которых и раскрывается качественная специфика его проявлений как субъекта деятельности в социальном времени и пространстве.
Цель статьи: проанализировать особенности и сущностные характеристики отображения времени в обыденном сознании, обусловленном определенными формами бытия человека, посредством которых он проявляется как индивид, индивидуальность, индивидуум.
Анализ работ показывает, что такие ученые, как А.Я. Гуревич, А.Н. Лой, В.П. Яковлев, А.И. Яценко и другие изучали относительную самостоятельность и специфику социального времени. Исследования М.Д. Ахундова, М.М. Бахтина, В.А. Канке, А.Н. Лойя, В.П. Яковлева и других посвящены изучению специфики художественного пространства. Эволюцию категории времени в культурно-историческом процессе рассматривал А.И. Осипов. В работах О.Н. Ежова, В.А. Канке и других осуществлен фундаментальный анализ социального времени относительно его специфики в различных сферах деятельности человека, в результате чего появилась концепция многообразия форм времени. Взаимосвязь существующих концепций времени с социальным пространством в историческом дискурсе с учетом специфики деятельности и бытия человека рассматривали М.А. Барг и А.Я. Гуревич. Прямую связь времени и культуры установили и изучали Ю.Г. Васильев, И.Т. Левая, В.С. Поликарпов, В.Н. Ярская и другие. Однако проблема требует дальнейшей разработки. Основой, генерирующей основополагающие духовно-культурные ценности, детерминирующие цивилизованное общественное сознание, которые на теоретическом уровне эксплицируются и разворачиваются в систему категорий, является обыденное сознание [1].
Мы исходим из того, что под общественным бытием следует понимать совокупность объективных общественных отношений вместе с образующим их основу материальным производством [2].
Несмотря на консервативность, стабильность и устойчивость, характерной чертой обыденного сознания является его способность к развитию и изменению под воздействием доминирующих в социуме саморазвивающихся духовных явлений иного уровня. Являясь и результатом, и причинным фактором жизненного мира человека, одна из подсистем которого - идеальная реальность, обыденное сознание посредством знаков, симулякров и образов удовлетворяет в виртуальной реальности актуальные потребности, неудовлетворенные в реальной жизнедеятельности [3]. Принимая во внимание динамичность исторического процесса, можно отметить конкретность общественного мнения, детерминированного обыденным сознанием, проявляющуюся в пространственной и темпоральной обусловленности отношения субъекта к объекту и социокультурной спецификой определенного социального субъекта. Конкретность общественного мнения проявляется в процессе формирования собственно мнения как оценочного суждения относительно воспринимаемого объекта посредством его соотнесения с существующей в конкретный исторический период системой представлений, ценностей, норм, убеждений, идеалов, сложившихся в определенной социальной общности как субъекте мнения, а также в его интенциональности на конкретный объект, представляющий социальный интерес для субъекта общественного мнения и связанный с удовлетворением его потребностей.
Следует отметить, как мы говорили ранее, что особенности и сущностные характеристики отображения времени в обыденном сознании обусловливаются определенными формами бытия человека, посредством которых он проявляется как субъект деятельности в социальном времени и пространстве, чья качественная определенность соотносится с его же проявлениями как индивида, индивидуальности, индивидуума [4]. Так, под понятием «индивид» следует понимать человека как обезличенное существо, безотносительно личностных качеств, т. е. лишенное своих специфических черт и особенностей, от которых абстрагируются при решении какой-либо проблемы, связанной с жизнедеятельностью. Понятие «индивидуальность» соотносится с полной противоположностью индивида, т. е. с неповторимым своеобразием человека, которое в качестве особенного характеризует данную единичность в параметрах различия ее атрибутивных свойств по отношению к другой единичности. Как правило, индивидуальность противопоставляется типичному, которое проявляется на биологическом уровне жизни человека. Понятием «индивидуум» в рамках социального пространства обозначают определенного представителя конкретной социальной группы, который является носителем характерных ее признаков (рабочий, менеджер, доктор и т. д.). В этом случае понятие тождественно определению социальной диспозиции человека, которой присуще отображение лишь типичных его свойств и характеристик безотносительно его индивидуальности.
Отображение социального времени в обыденном сознании исторического периода, который можно определить как мифологическое время, напрямую соотносится с «временем индивида» [5]. Так, согласно подходу В.Н. Ярской, мифологическое время – это сфера первопричин последующих эмпирических событий, когда устройство мира объясняется через его создание, однократные акты творения, которые являются детерминантами и архетипами современных событий [6]. В первобытном обыденном сознании длительность процессов и динамические ряды событий не осознавались человеком, было значимо постоянство, а не изменчивость, и все представления о времени сводились к циклическому его вращению, т. к. допонятийное мышление не воспринимало взаимообусловленность прошлого, настоящего и будущего.
Таким образом, мифологическое время принято считать атемпоральным, т. е. не связанным со временем вещей. Все события – свершившиеся, происходящие в данный момент и лишь имеющие вероятность свершиться – сосуществуют. Обыденное сознание не имело возможности различать и оценивать событийный ряд в контексте времени и, в силу его цикличности, «миф выступал интертемпоральной структурой, что давало возможность пересматривать каноны прошлого вслед за изменением социокультурной метрики настоящего» [7, с. 4]. Уровень развития социальных отношений обусловливал соответствующие представления о времени как о «трансформации всего пережитого во вневременное, неподвижное, неизменяющееся настоящее» [8, с. 67–68]. Так, будущее воспроизводило настоящее и им же было предопределено. В таком мировосприятии реальность не нуждалась в предсказании.
Более сложное по своей структуре античное сознание также не было абсолютно свободно от мифологизма и во многом выражалось в чувственных образах, обращалось к индивидуальной психике человека. Оно соотносится с «временем индивидуальности». Человеческую природу наблюдали, изображали, передавали не только мудрецы, но и комедиографы, мимографы, скульпторы, сатирики, а идея отображения обыденного сознания представляла собой «не столько поэму отвлеченной мысли, сколько эпистимы наглядного восприятия» [9, с. 17]. В античном обыденном сознании закладываются основы прогностической культуры. Согласно учению Пифагора, «происходящее в мире снова повторяется через определенные промежутки времени и … ничего нового… не происходит» [10, с. 211]. Здесь считывается преемственность античного времени от мифологического. Однако обнаруживается и некоторая специфика представлений о детерминированности прошлого, настоящего и будущего. Так, согласно идеям Гераклита, будущее по мере приближения становится настоящим, а становление настоящего отодвигает его события в прошлое [11].
Социальное время античности из состояния циклического вращения, свойственного первобытному обыденному сознанию, разворачивается и представляет собой круговращение одних и тех же форм, основанных на реалистических ощущениях. Незрелые социальные отношения мифического времени, основанные на мифах и религиозных представлениях, в античности становятся более стабильными, что позволяет перейти к теоретическому изучению истории и порождает представления о предписанном характере событий в виде судьбы, кармы, жесткие предначертания которых человек может лишь реализовать, но не изменить или перенаправить.
Связь времени человека и его памяти проявляется как «психологизация» времени – персонализация времени в понятии человеческой души как меры времени. Живая наглядность не отрывается от формы конкретно-чувственного восприятия и обнаруживает структуру настоящего и будущего в особом моменте «теперь», в диалектике объективного и субъективного.
Освободившийся от общинно-родовых авторитетов человек остается зависим от судьбоносных сил, предопределяющих его бытие [12, с. 131] и социальную роль, место среди других людей в социальном пространстве и времени. Так, обнаруживаются формы бытия человека, посредством которых он проявляется как индивидуум.
Проявление человека как индивидуума отображается в обыденном сознании эпохи Возрождения. В этот период человеку отводится роль творческого субъекта, а трансформация общественных отношений смещает акценты с личностных на так называемые «вещные», товарноденежные, что способствовало появлению в рамках социального пространства четко выраженных социальных групп, носителем характерных признаков которых стал человек. Тогда же появляется необходимость в дифференциации времени на предыдущее и последующее, связанные между собой и переходящие друг в друга.
Переход от деревенской к городской культуре приводит к изменению бытия человека, привнося в него иной ритм, необходимость прогнозирования, обогащая его натурфилософской и естественнонаучной мыслью, художественным гением, расцветом творческости. В этот период вскрывается многомерность времени, его несводимость к одной из своих ипостасей. В обыденном сознании Возрождения ценность времени возрастает до «драгоценнейшей вещи», владеть которой означает «окультивироваться в ней», воспринимать историческое время как собственное. С одной стороны, время представляет собой бытие культуры, с другой – является отражением сущности индивидуума, который в процессе инкультурации становится носителем отпечатка всеобщей истории. Возрастает ценность времени как «не бесконечной», а имеющей свое начало и завершение категории, и текущего, проживаемого «здесь и теперь» момента в частности. Понимание «небес-конечности» времени становится источником энергии, а отсутствие конкретного аналитического предсказания будущих событий часто заменяется субъективной оценкой собственного поведения, своего рода императивным предписанием. Человек приходит к осознанию себя как творца самого себя и своей судьбы и пониманию прогностических возможностей собственной деятельности. Такая акцентированная значимость настоящего приводит к тому, что к нему практически сводятся и в нем сосуществуют будущее и прошлое, что объясняет повышенный интерес к будущему. Сама категория времени в обыденном сознании эпохи Возрождения реализует его историческую интенциональность, отражает практицизм и реабилитацию практической деятельности, а также возвышение интереса к изучению природы, Вселенной, мироздания, архитектуры и музыки, языков и т. п. Время позволяет реализовать сущностные силы человека и свободу его воли, стремление к самосовершенствованию, попадая, таким образом, в его власть.
Объективированное время преобразовывается в объективную же сущность независимого от человека и производных его деятельности. Появляется понятие «фактор времени», связанное с аспектом субстанционального влияния на локальный процесс. Существенную роль в развитии представлений о времени сыграла статика, т. к. в рамках концепции времени рассматривались статичные темпоральные состояния, описывая события прошлого, настоящего и будущего в «неживых» моделях, отображающих лишь фиксированные их отражения в обыденном сознании. Таким образом, собственно время устранялось из перечня факторов бытия в обыденном сознании человека. Предвидение получает в науке этого периода осознание лишь в рамках настоящего, хотя объективно прогностическая функция сознания на теоретическом уровне индифферентна к направлению времени. Поиски и вопросы к будущему существовали чаще всего в форме утверждений, действительное историческое значение которых обнаруживает лишь дальнейший ретроспективный анализ [13].
Благодаря ньютоновскому пониманию времени как вместилища событий научный способ познания мира получил возможность из состояния движения в данный момент времени выводить последующее за ним состояние [14].
Согласно утверждениям А.И. Осипова, для обыденного сознания имеют значение темпоральные характеристики объектов, которые заданы в системе координат потребностей и целей обыденности [15]. Акцент смещается с глобальных параметров времени на темпоральные отношения предметов повседневности в системе координат обыденности. В свою очередь, нормы и установки, выполняющие функцию средств оценивания, приобретают утилитарно-прагматический характер [16]. Само же отношение ко времени в обыденном сознании носит рассудочный, утилитарный характер, что порождает нетипичные эмоционально окрашенные оценки, выражающие проблематичность вписывания временных аспектов жизнедеятельности отдельного человека в общественные ритмы, формируя определенную линию поведения, программу действий. Складывающиеся ценностные ориентации закрепляются в форме разнообразных стереотипов, в которых эмоциональное и рациональное, знание и оценка слиты и функционально направлены. Соответственно, культурный прогресс приводит к более высокому уровню освоения времени, и к большей степени автономности социального тайм-менеджмента от естественного (природного) времени. При этом возникает противоречивое сочетание ощущения быстротечности, необратимости и, в то же время, фундаментальной неуловимости времени. Переход в новоевропейской культуре к представлениям о гомогенности и линейности времени сконцентрировал представление о настоящем времени до неуловимой точки, непрестанно скользящей по линии, которая ведет из прошлого в будущее и превращает будущее в прошлое [17].
Таким образом, поиск закономерностей взаимосвязи формы бытия человека с той мерой ее длительности, которая характеризует ту или иную историческую эпоху, позволил выявить и описать «время индивида», «время индивидуальности» и «время индивидуума». Интенциональность обыденного сознания и динамичность исторического процесса позволили отметить конкретность общественного мнения. Так, отображение социального времени в обыденном сознании исторического периода, который можно определить как мифологическое время, являющееся объективно атемпоральным, напрямую соотносится с тем, что определяется как «время индивида». Античное сознание во многом выражалось в чувственных образах, обращалось к индивидуальной психике человека и соотносится с «временем индивидуальности». Проявление человека как индивидуума отображается в обыденном сознании эпохи Возрождения, где объективированное время преобразовывается в объективную сущность независимого от человека и производных его деятельности. Осуществленный анализ особенностей и сущностных характеристик отображения времени в обыденном сознании подтверждает их обусловленность определенными формами бытия человека, посредством которых он проявляется как индивид, индивидуальность, индивидуум, что может послужить методологическим основанием для дальнейших исследований.
Ссылки:
-
1. Федотов В.А., Лапина С.Н. Обыденное сознание как социокультурный феномен // Общество: философия, история, культура. 2016. № 6.
-
2. Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма М., 1962. 550 с.; Зырина Я.А., Емец И.А. Общественное сознание и общественное мнение в ракурсе диалектико-материалистического понимания истории К. Маркса и Ф. Энгельса // Культура и цивилизация (Донецк). 2020. № 2 (12). С. 61–67.
-
3. Коробицын С.А. Феномен виртуальности обыденного сознания: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2005. 28 с.
-
4. Зырина Я.А. Время индивида как форма определенности бытия человека // Научный вестник ГОУ ЛНР «Луганский
национальный аграрный университет». Луганск, 2020. № 8(2). С. 416–422.
-
5. Ярская В.Н. Время в эволюции культуры: Философские очерки. Саратов, 1989. 152 с.
-
6. Там же.
-
7. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени. М., 2002. 264 с.
-
8. Жаров А.М. Проблема времени и неопределенность. Ростов н/Д, 1991. 160 с.
-
9. Лифшиц М.А. Мифология древняя и современная. М., 1979. 582 с.
-
10. Антология мировой философии. Т.1. Философия древности и средневековья / Ред. коллегия: В.В. Соколов и др. М., 1969. 936 с.
-
11. Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. М., 1972. 312 с.
-
12. Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977. 208 с.
-
13. Ячин С.Е. Аналитика человеческого бытия: введение в опыт самопознания. Систематический очерк. М., 2014. 217 с. 14. Ярская В.Н. Указ. соч.
-
15. Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регуляторы практической деятельности. Мн. 1989. 220 с. 16. Там же.
-
17. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 349 с.
Редактор, переводчик: Невзорова Наталья Викторовна
Список литературы Слово, язык и коммуникация в социальной философии С.Л. Франка
- Зеньковский В.В. История русской философии. М., 2001. 880 с.
- Аляев Г.Е. С. Франк и Вл. Соловьев: «пересмотр наследия» // Соловьевские исследования. 2008. Вып. 4 (19). С. 41-44.
- Чернусь В.К. Владимир Соловьёв и онтология С.Л. Франка // Соловьевские исследования. 2017. Вып. 1 (53). С. 55-68.
- Там же. С. 59.
- Франк С.Л. Непостижимое // Сочинения. М., 1990. С. 477.
- Логинова Е.Г., Гвоздева Е.Н. Язык как социокультурный феномен в философии всеединства В.С. Соловьева, С.Л. Франка и П.А. Флоренского // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2020. Т. 9, № 5А. С. 130-138. https://doi.org/10.34670/ar.2020. 74.23.002.
- Франк С.Л. Непостижимое. С. 478.
- Элен П. Выражение, слово и откровение в философии Семена Л. Франка / пер. с нем. А.С. Цыганкова // История философии. 2017. Т. 22, № 1. С. 68-77.
- Франк С.Л. Этюды о Пушкине. М., 1999. 177 с.
- Логинова Е.Г., Гвоздева Е.Н. Язык как социокультурный феномен ... С. 130-138.
- Зеньковский В.В. Указ. соч. С. 812.
- Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 511 с.
- Доброхотов А.Л. К публикации фрагментов книги С.Л. Франка «Духовные основы общества» // Альфа и Омега. 1998. № 1 (15). С. 169-175.
- Даренский В.Ю. «Ты»-философия С.Л. Франка как неклассическая теодицея // Идейное наследие С.Л. Франка в контексте современной культуры / под ред. В. Поруса. М., 2009. С. 85-100.
- Ягубова С.Я. Категория «соборность» в философской антропологии С.Л. Франка // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Серия: Философия. 2009. № 2. С. 90-98.
- Багаева О.Н. Феномен общения как потенция «чистой солидарности» и понимание диалогичности как основания метафизики всеединства в философских воззрениях С.Л. Франка и А.А. Мейера // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2019. № 3. С.88-98. https://doi.org/10.18384/2310-7227-2019-3-88-98.
- Франк С.Л. Реальность и человек. М.,1997. 479 с.
- Франк С.Л. Непостижимое. С. 354.
- Франк С.Л. Духовные основы общества. С. 53.