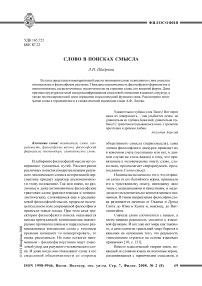Слово в поисках смысла
Автор: Шадрина Лариса Николаевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен компаративный анализ понимания слова и связанного с ним смысла в номинализме и философском реализме. Показана ограниченность философского формализма и неопозитивизма, сосредоточенных исключительно на строении слова, его внешней форме. Дана критика структуралистской идеи расшифровывания смысловой символики языковых структур, а также постмодернистской идеи отрицания смыслонесущей функции слова. Рассмотрено понимание слова в герменевтике и в символической концепции слова А.Ф. Лосева.
Номинализм, слово, сакральность, философские школы, философский формализм, постмодерн, символическое слово
Короткий адрес: https://sciup.org/14974254
IDR: 14974254 | УДК: 165.725
Текст научной статьи Слово в поисках смысла
В лабиринте философской мысли нет совершенно тупиковых путей. Рассмотрение различных попыток концептуализации разумного человеческого слова в исторической перспективе придает характер аксиоматичнос-ти этому положению. Так или иначе, но различные и даже антиномичные философские трактовки слова (реалистическая и номиналистическая), сложившиеся еще в средневековой философской мысли, проросли на концептуальном поле современной философии и принесли новые плоды. При этом сама траектория философского поиска оказывается весьма причудливой: возникшие как диаметрально противоположные и параллельно развивающиеся концепции слова с течением времени начинают то конвергировать, то вновь расходиться. Но одно остается неизменным – философы неустанно ищут смысловой упор для разумного человеческого слова. И даже когда они отказывают слову в его смысловой обеспеченности со стороны объективного смысла (первосмысла), сама логика философского дискурса приводит их в конечном счете (осознанно или нет, в данном случае не столь важно) к тому, что привязанное к человеческому опыту слово, слово-знак, предполагает сверхразумное, предпосланное Слово-смысл.
Номиналисты начали с того, что оторвали слово от его бытийного корня, привязали его к чувственному опыту, имеющему дело лишь с акциденциями и качествами, и наделили его исключительно коннотативным значением. В таком направлении философия слова развивается начиная от Оккама и Дунса Скота до Юма и Канта и, наконец, до Витгенштейна.
Сначала слово соотносится с вещью, а затем вещная реальность сводится к языковой функции. И вот уже нет мира как такового, а само понятие «реальный мир» берется в кавычки на основании того, что реальность «неосознанно строится на основе языковых привычек» [10, с. 131].
Вместо классической теории имен, искавшей за словами языка их исконные корни, соединяющиеся с первичными смыслами, в центре внимания оказываются грамматические законы, не сводимые ни к каким универсальным законам представления и мышления (см.: [11, с. 209]). Смыслы начинают определяться через грамматическую систему. И вот уже предложение, а не слово человеческого языка, слово, так сказать, с маленькой буквы, занимает место сакрального Слова.
Если рассматривать развитие номиналистической концепции слова в исторической перспективе, то становится очевидным, какие бы маневры не предпринимали адепты оккамистс-ки ориентированной философии, в конечном счете они попадают в плен к потаенному сверхчеловеческому разуму, будь то предпосланное человеческому слову Слово-смысл или «мегаграмматика», выходящая за пределы конкретного грамматического строя и обеспечивающая возможность межъязыкового, межкультурного взаимопонимания и, что существенно, возможность говорить о языке как таковом.
Иной путь философского «исправления» восходит к средневековому реализму. Философское внимание реалистов привлечено исключительно к смыслу. У реалистов, как известно, дух не проявляется в вещах, он бесплотен. Самым влиятельным философским умом XIX в., последовавшим путем Эриугены, Росцелина, Ансельма, является Гегель, в философской системе которого дух в его диалектике противопоставлен миру самих вещей, движение которых подменяется движением мысли о них. Другой значительной философской фигурой, мыслящей в рамках данной парадигмы, был Э. Гуссерль, влияние которого на развитие европейской философии ХХ в. невозможно переоценить. Кредо его теории познания – созерцание «чистых феноменов», то есть самих сущностей, и их переживание. Гуссерль отказывается говорить о каких-либо возможных структурах бытия вне сознания, хотя при этом вполне осознает, что методологическое ядро его феноменологии – рефлексия второго уровня, в которой мир осознается «тематически», в качестве окружающего мира, горизонта, – не имеет выхода к реальному богатству связей с миром, воспринимаемым в непосредственном опыте [9, с. 99–102].
Еще один путь «исправления» слова был проложен в конце ХIХ – начале ХХ в. С. Малларме и нашими отечественными поэтами фу- туристами – В. Хлебниковым, Д. Бурлюком, А. Крученых и др. Была поставлена цель – разрушить формальную сторону слова и тем самым освободить его творческую энергию. Получавшиеся в результате этого «за-умные» слова должны были стать, по мысли теоретиков, денотативно укорененными словами, составить «звуко-речь» глубин, вырвавшуюся за границы логической формы. Этот путь неверия в разумное человеческое слово нашел своих последователей в ХХ в. среди философов постмодернистов, которые выступили с идеей избавления от принудительности логических языковых форм и поставили в связи с этим задачу «дурачания» языка (Ж. Делез).
Философский формализм так же, как и неопозитивизм в форме аналитической философии, сосредоточен только на одной стороне слова, игнорирует его синтетический характер. Слово представляет собой одновременно и факт языка, и факт личной духовной жизни. Оно держится противоречивым единством внешней и внутренней формы. Внешняя форма – это строение слова. Это жесткий каркас, отвечающий требованиям его общезначимости. Эта форма не имеет отношения к творчеству, не изобретается, она дается уже готовой. В то время как внутренняя форма слова представляет собой факт личной духовной жизни. Благодаря внутренней форме слово способно рождаться всякий раз заново, оно становится неповторимым, живым и текучим, музыкальным словом.
Хотя в целом историческая победа оказалась за наследниками Оккама, поиски соотношения между Словом и словом, между словом и вещью, между Словом и миром вещей не прекращались. Конец ХIХ в. знает еще одну фундаментальную попытку решить проблему смыслообеспеченности слова. Первым, кто бросил вызов господствующей философской традиции, отрывающей слово от телесной реальности, и выступил против окаменелого слова классического просвещенческого дискурса, был Ф. Ницше. Из телесного, бессознательного у Ницше проступает присущая каждому человеку и обусловливающая все его важнейшие поступки сверхсознательная сила – «воля к власти». Дальнейший шаг в этом направлении сделал З. Фрейд. Он предпринял попытку расшифровать смысловую символику бессозна- тельного, тем самым предполагая саму возможность тождества между разумным словесным дискурсом и скрытым, подлежащим герменевтическому прояснению дискурсом Другого. На этой же предпосылке развертывается и структуралистская трактовка бессознательного, предложенная в середине ХХ столетия Ж. Лаканом. Понимая бессознательное как речь большого Другого, французский философ пытается рационализировать формальную структуру бессознательного, прочитать речь Другого, обращаясь к анализу языковой структуры [6, с. 55– 56; 7, с. 123]. Связь же между Словом и словом, согласно Лакану, обнаруживает себя в том месте, где желание пересекает и нарушает логическую форму [7, с. 155].
Именно с лакановской категорией «желание» связывают надежду на освобождение слова от смысла, то есть на разрушение концепции слова, присущей классической парадигме, такие влиятельные западные философы-постмодернисты, как Ж. Батай, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез, Ю. Кристева. Эротизированное и экстатизированное тело , а не слово пропускает к тайне бытия , полагают вышеназванные теоретики, составляющие верхний этаж философского постмодерна. Тело, как они считают, воспринимает бытие непосредственно , отвечает на его воздействие универсальными знаками, составляющими «естественный язык». Но что парадоксально, антивизуалистская концепция тела, от которой отталкивается философский постмодерн, приводит к деонтологизации тела, превращает его в воображаемый образ, то есть в феномен сознания.
Для постмодернистской концепции слова характерна элиминация слова как смысло-несущей единицы. Слова предстают как вторичные знаки, утратившие свои денотативные значения. Они наделяются исключительно коннотативными значениями, зависящими от социокультурного контекста. Смысловая автономность слова исчезает. У Деррида на этот счет имеется специальный термин – «след» (см.: [5, с. 166]). Знак, как утверждает Деррида, обозначает не столько предмет, сколько отсутствие его наличия. Бесконечное подразумевание, игра смыслов призваны прежде всего философски дискредитировать само понятие истины, абсолютного смысла.
М. Эпштейн верно подмечает [13, с. 167], что дерридеанское понятие «след» не дезавуирует метафизику с ее идеей тождества и, соответственно, смысла. След, очищенный от всего, следом чего он является (первослед), становится неотличим от вещи или от понятия в их тождественности себе, он приобретает значение смыслообеспечивающего первоначала, как верно указывает философ [там же].
Следует сказать, что сами французские философы осознают теоретическую уязвимость идеи смыслового несоответствия всякого слова. «Несоответствие всякого слова... по меньшей мере должно быть высказано», – рассуждает Ж. Деррида. Но «стоит кому-либо открыть рот для осмысленного высказывания», как он «соскальзывает в правоту Гегеля», то есть попадает в рабство к вожделеющему смысла дискурсу, признает философ [4, с. 151–152].
Констатация смыслового несоответствия слова предполагает предварительное владение положительным фиксированным критерием. И даже в том случае, если этот критерий является достоянием внутреннего опыта, опыта трансгрессии в сферу безмолвия и «немыслия», то остается без ответа самый главный вопрос: как этот опыт удерживается и становится знанием. И что важно, само понятие «знание» предполагает субъекта носителя знания. В итоге получается, что неспособное к самообъективации в слове Я десубъективизируется, распыляется, ши-зофренизируется. Подходящим местом для такого странного Я будет «лечебница имени Босха», где его станут кормить из ложечки, одевать, а оно не будет знать, что есть действительность, а что есть сон и кто такой Босх.
Философия ХХ в. знает обстоятельную попытку реабилитации слова как смыслонесущей единицы языка. Эта попытка была предпринята Х.Г. Гадамером (см.: [3]). В его интерпретации слово изначально по отношению к языку. Оно принадлежит самой вещи. В нем проявляется самопоказывающая себя истина [там же, с. 484– 485]. Но что же такое слово, какова природа слова? На этот вопрос Гадамер не дает ответа, характеризуя слово как «чудо» [там же, с. 487–488]. Он останавливается на констатации того, что слово не есть знак и не есть вещь и что оно не совпадает с интерпретатором.
Как нам представляется, проблема, с которой сталкивается в трактовке слова Гада- мер, находит свое решение в философии слова, которую развивает А. Лосев [8]. Его концепция слова и языка противостоит как релятивистским концепциям, сомневающимся в самой возможности посредством языка выразить сущностный смысл, так и концепциям, рассматривающим язык как субстанциональную обитель истины и лишающим слово его субъективно-творческого, собственно человеческого, начала (М. Хайдеггер и Х.Г. Гадамер). Отталкиваясь от православной доктрины существования разных, иерархически упорядоченных в своей цельности форм энергийного выражения сущности, русский философ онтологизирует слово. Сама Вселенная, весь мир, в представлении А. Лосева, – это выраженное имя или слово. Слово есть смысл, сущность. Весь мир, включая неживые вещи, – лестница разной степени сущего, разной степени словесности, «затверделости» или жизненности слова [8, с. 52– 53]. Человеческое слово, с его точки зрения, представляет собой лишь один из видов слова в его широком понимании. Оно – мост между субъектом и объектом воспринимающим и воспринимаемым, познающим и познаваемым. Живое слово – поле сознательной встречи с предметами, с их внутренней жизнью. Оно – не просто звук, «но постигнутая вещь, с которой осмысленно общается человек» [там же, с. 148]. Слово и есть сама вещь в аспекте своей понятности для человека, в аспекте своей общительности, утверждает русский философ [там же, с. 155].
Лосевская концепция слова синтетична и диалектична. Человеческое слово, «мысле-слово», как и человечекский субъект, есть результат всех энергем, которые только мыслимы, утверждает философ. Будучи более высокой степенью словесности, оно диалектически включает в себя все моменты слова, и его адекватное описание возможно, только если раскрыть все формы бытийной выраженности слова как такового, включая человеческое тело [там же, с. 139].
Русский философ развивает свою концепцию слова, отталкиваясь от философии реалистического символизма. И это, на наш взгляд, позволяет ему избежать теоретической трудности в понимании слова, с которой сталкивается Гадамер, фиксирующий несовпадение слова со знаком и образом, но не видящий опос- редующего момента, снимающего в диалектическом синтезе эти противоположности. Символическая интерпретация слова, которую дает А. Лосев, позволяет понять, как возможно совпадение слова с вещью и с интерпретатором. Слово, в понимании А. Лосева, символично. Символ – «это некий неразгаданный икс, который как-то дан в своих энергиях» [там же, с. 89]. Символ прозревает сквозь действительность мира, понятую в аспекте ее явленности, энергийной выраженности, иную, более действительную, невыявляемую до конца сущностную реальность. Согласно Лосеву, и всякая вещь, выступающая со стороны своей проявленной, образной, воплощенной, но до конца «не-исследимой» сущности, и всякое мысле-слово, будучи так же, как и вещь (но в большей степени), энергийно выраженной смысло-сущнос-тью, есть символ. Так русский философ обосновал идею тождества между вещью, словом и интерпретатором.
Символическое слово трактуется А. Лосевым так же, как и другими философами, стоящими на позициях реалистического символизма (Вяч. Ивановым, А. Белым и, наконец, имяславцем П. Флоренским), не только и не столько со стороны указующей, означающей его функции и не только онтологически, как было сказано выше, но соборно. Человеческое слово приобщает говорящего к надындивидуальному общечеловеческому соборному единству [12, с. 234], «вживляет» его во всеединую мистическую целостность персо-налистски трактуемого бытия.
Важно отметить, что парадигме реалистического символизма как феномену русской философской культуры присущ эротизм в широком понимании этого слова. Пафос реалистического символизма – это эрос божественного устремления к Реальнешему Сущему.
О попытке смысловой реабилитации слова свидетельствует работа одного из виднейших представителей постструктуралистски-постмодернистского комплекса идей Р. Барта «Фрагменты речи влюбленного» [1]. Р. Барт, так же как и русские философы, ведет речь об эротически напряженном слове и наделяет слово вертикальным смыслом. Пер-вословом, пропускающим в область предельных явлений человеческой жизни, он считает «холофразу» «Я-люблю-тебя», в которой субъект и объект составляют единство [там же, с. 361]. И что существенно, французский философ пытается уйти от редукции Эроса к сексуализированной, экстатизированной телесности, столь характерной для постмодернистской философии. Но все-таки его Эрос «бескрыл». Он ограничен чувственностью, страданием и радостью влюбленного, его индивидуальным опытом и не имеет духовного, личностного измерения. Любовь в трактовке Барта не выводит человека за пределы своего Эго, к трансцендентно-имманентному Другому. Это нарциссическая любовь. Влюбленный Барта не знает духовно-душевно-телесной любви, любви созидательной, творческой, порождающей первоформы культурного бытия человека. Любви, которая делает возможным невозможное, выразимым невыразимое. Имперсоналистская, имманентистская методологическая основа и связанный с ней психологизм не дают возможности французскому философу прорваться от субъекта к Субъекту, от слова к Слову-смыслу.
Слово, одухотворяемое любовью, слово любящего является одновременно и фактом языка, и фактом личной духовной жизни. Оно держится напряжением между двумя его сторонами: внешне формальной и внутренне содержательной. Под воздействием любви «происходит таинственное и чудесное перерождение слова, оно звучит как бы из другого мира» [2, с. 54].
Путь, каким практически преодолевается разрыв между словом и Словом, указала нам христианская мысль. «Дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения... и познали Сына Божия» (то есть Логос. – Л. Ш. ), необходимо
«созидать самих себя в любви», пишет апостол Павел в Послании к Ефесянам. Слова без любви, учит святой апостол в Первом Послании к Коринфянам, «медь звенящая или кимвал звучащий».
Список литературы Слово в поисках смысла
- Барт, Р. Фрагменты речи влюбленного/Р. Барт. М.: Ad Marginem, 1999. 431 с.
- Булгаков, С. Н. Тихие думы/С. Н. Булгаков. М.: Республика, 1996. 508 с.
- Гадамер, Х.-Г. Истина и метод/Х.-Г. Гада-мер. М.: Прогресс, 1988. 704 с.
- Деррида, Ж. Невоздержанное гегельянство/Ж. Деррида//Батай, Ж. Танатография Эроса. СПб.: Мифрил, 1994. 375 с.
- Деррида, Ж. О Грамматологии/Ж. Деррида. М.: Ad Marginem, 2000. 512 с.
- Лакан, Ж. Инстанция Буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда/Ж. Лакан. М.: Пирамида, 1997. 183 с.
- Лакан, Ж. Образование бессознательного (Семинары. Книга V (1957/1958))/Ж. Лакан. М.: Логос, 2002. 600 с.
- Лосев, А. Ф. Философия имени//Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. 655 с.
- Проблема сознания в современной западной философии: Критика некоторых концепций. М.: Наука, 1989. 250 с.
- Сепир, Э. Статус лингвистики как науки/Э. Сепир//Языки как образ мира. М.: АСТ, 2003. 568 с.
- Уорф, Б. Наука и языкознание/Б. Уорф//Языки как образ мира. М.: АСТ, 2003. 568 с.
- Флоренский, П. А. У водоразделов мысли/П. А. Флоренский. М.: Правда, 1990. 446 с.
- Эпштейн, М. Философия невозможного/М. Эпштейн. СПб.: Алетейя, 2001. 334 с.