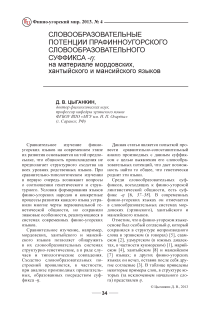Словообразовательные потенции прафинно-угорского словообразовательного суффикса - в мордовских, хантыйском и мансийском языках
Автор: Цыганкин Дмитрий Васильевич
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 4, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются потенциальные возможности финно-угорского (уральского) словообразовательного суффикса -ŋ в мордовских, хантыйском и мансийском языках.
Словообразовательный суффикс, потенции суффикса, хантыйский язык, мансийский язык, мордовские языки
Короткий адрес: https://sciup.org/14723028
IDR: 14723028
Текст научной статьи Словообразовательные потенции прафинно-угорского словообразовательного суффикса - в мордовских, хантыйском и мансийском языках
Сравнительное изучение финноугорских языков на современном этапе их развития основывается на той предпосылке, что общность происхождения не предполагает структурного сходства на всех уровнях родственных языков. При сравнительно-типологическом изучении в первую очередь возникают вопросы о соотношении генетического и структурного. Условия формирования языков финно-угорских народов и конкретные процессы развития каждого языка устранили многие черты первоначальной генетической общности, но сохранили знаковые особенности, реализующиеся в системах современных финно-угорских языков.
Сравнительное изучение, например, мордовских, хантыйского и мансийского языков позволяет обнаружить в их словообразовательных системах структурно-генетические, а в ряде случаев и типологические совпадения. Сходство словообразовательных построений проявляется, в частности, при анализе производных прилагательных, образованных посредством суффикса -ŋ .
Данная статья является попыткой провести сравнительно-сопоставительный анализ производных с данным суффиксом с целью выявления его словообразовательных потенций, что даст возможность найти то общее, что генетически роднит эти языки.
Среди словообразовательных суффиксов, восходящих к финно-угорской лингвистической общности, есть суффикс -ŋ [6, 37–38 ]. В современных финно-угорских языках он отмечается в словообразовательных системах мордовских (эрзянского), хантыйского и мансийского языков.
Отметим, что в финно-угорском языке-основе был особый согласный ŋ , который сохранился в структуре непроизводного слова в эрзянском (в говорах) [5], саамском [2], удмуртском (в южных диалектах, в частности кукморском) [1], марийском [4], хантыйском [8] и мансийском [7] языках; в других финно-угорских языках он исчез, оставив после себя другие согласные [3]. В таблице приведены некоторые примеры слов, в структуре которых (за исключением начального слога) представлен ŋ .
Примеры слов с согласным ŋ в финно-угорских языках
|
э. д. |
мр. |
уд. д. |
см. |
х. |
мн. |
|
čoŋ «пена» |
šoŋ «пена» |
šaŋga «галка» |
iŋŋ «лед» |
čǝ1ŋk «жара» |
jaŋk «лед» |
|
koŋ «луна» |
čaŋa «галка» |
puŋ «конец» |
pāŋŋʹk «уздечка» |
jǝŋk «вода» |
puŋk «зуб» |
|
kilʹeŋ «береза» |
oŋ «грудь» |
diŋ «комель» |
ranŋʹk «тело» |
ķunǝŋ «подмышка» |
lātǝŋ «слово; весть» |
|
pŋ «зуб» |
čüŋgaš «клевать» |
čaŋ «набат» |
rīŋŋk «ветер» |
čaŋkt a «расти» |
paŋх «мухомор» |
|
ęŋ «лед» |
möŋgeš «обратно» |
cʹiŋkaš «бровь» |
jūŋŋk «нога» |
jöŋk «лед» |
sʹūŋ «угол (острый)» |
Что касается словообразовательного суффикса -ŋ , то он, используя потенциальные возможности в каждом из сравниваемых языков, образует как прилагательные, так и существительные.
-
1. Прилагательные от существительных со значениями «изобилующий чем-либо», «обладающий чем-либо», название которых выражено производящей основой: ф.-у. * were > э. verʹ , м. ver «кровь» → э. д. verʹeŋ , э. л. verʹev , м. verį2 «кровавый, окровавленный» – х. vǝr «кровь» → wǝrǝŋ «кровянистый; окровавленный»;
-
2. Прилагательные от существительных с общим значением «наделенный тем, что названо производящей основой»:
ф.-у. * puna- >э., м. pona «волос; шерсть» → э. д. ponaŋ , э., м. ponav «волосатый; мохнатый» – х. puŋ «волос; шерсть; перо» → puŋǝŋ «мохнатый; покрытый шерстью, волосами, пером» – мн. pun «перо (птицы); пух; мех; шерсть» → punįŋ «пушистый; косматый»;
ф.-у. * woje > э. voj , м. vaj «масло» → э. д. oejeŋ , э. л. oev , м. oju «масляный; маслянистый» – х. woj «жир, сало (нутряное)» → wojaŋ ~ wŏǝŋ «жирный» – мн. woj «жир; сало; масло» → wojįŋ «жирный»;
ф.-у. * kiwe > э., м. kev «камень» → э. д. keveŋ , э. л. kevev , м. kevi «каменистый» – х. köɤ3 ~ káw «камень» → kökkǝŋ ~ kаveŋ «каменистый; комковый»;
ф.-у. * wete > э., м. vedʹ «вода» → э. д. vedʹeŋ , э. л. vedʹev , м. vedʹu «водянистый» – мн. wit ~ wit' «вода» → witįŋ ~ witеŋ «водянистый; мокрый; сочный» и др.
ф.-у. * wäke > э., м. vij «сила; могущество» → э. д. vijeŋ , э. л. vijev , м. viji ( viju ) «сильный; могущественный» – х. wöɤ «сила» → wökkǝŋ «сильный» – мн. wag «сила» → wagįŋ «сильный; мощный»;
ф.-у. * piŋe > э., м. pej «зуб» → э. д. pejeŋ , э. л. pejev , м. peju «зубастый» – х. pöŋk «зуб; зубец» → pöŋkǝŋ «зубастый» – мн. puŋk ~ päŋk «зуб» → puŋkįŋ «зубастый»;
ф.-у. * sōla > э., м. sal «соль» → э. д. saloŋ , э. л. salov , м. salu «соленый» – х. sŏlnǝ ~ sălna ~ săttǝ «соль» → sălnaŋ ~ sŏttǝŋ «соленый» – мн. solwal «соль» → solwalįŋ «соленый»;
ф.-у. * sarnɛ > э. sįrʹnʹe «золото» → э. д. sįrʹnʹeŋ , э. л. sįrʹnʹev «золотой; золотистый» – х. sărnʹǝ ~ sŏrnʹe «золото» → sărnʹaŋ ~ sornʹeŋ «золотой» – мн. sornʹi «золото» → sornʹįŋ ~ surneŋ «золотой»;
ф.-у. * künče >э., м. kenže «ноготь» → э. д. kenžeŋ , э. л. kenžev , м. kenži «когтистый» – х. kŭ 4 nč ~ kŭnš «ноготь; коготь» → kŭnčǝŋ ~ kŭnšǝŋ «когтистый» – мн. kons ~ käns «ноготь; коготь» → Ø5 и др.
В данную группу можно отнести хантыйские и мансийские производные прилагательные с суффиксом -ŋ , не имеющие прямых соответствий в мордовских языках. Первый член (производящая основа) в некоторых соответствиях наличествует в качестве самостоятельного слова или обнаруживается как основа в глагольных образованиях:
-
• х. ķol «щель» → ķolǝŋ «щелеватый, щелевой, щелистый»; э., м. kol- (> kolʹgems «течь, протекать»);
-
• х. wer «дело; работа» → werǝŋ «деловой; дельный»; э. ver- (> verʹgedʹems «зажечь; высечь огонь»);
-
• х. tas «богатство; имущество; добро» → tasǝŋ «богатый», мн. sol «богатство» → solįŋ «богатый» – э. taš- (> taštams «копить, накопить; сберечь; экономить»);
-
• х. pįn «бородавка; родимое пятно» → pįnǝŋ «бородавчатый»; э. pinʹ- (> pinʹenʹčečej «ячмень на глазу»);
-
• х. ķįn ʹ ~ ķen «заразная болезнь» → ķįnʹǝŋ ~ ķenǝŋ «больной; хворый»; э. kinʹ- (> kinʹetʹems «чесаться») и др.
-
3. Существительные от существительных со значением предназначения. В мордовских языках в таких соответствиях обнаруживается лишь первый член, второй – отсутствует:
-
• х. köt «рука» → kötǝŋ «повитуха, повивальная бабка», мн. kat «рука» – Ø, э. kedʹ , м. kädʹ «рука» → Ø;
-
• х. nʹal ~ nʹat «стрела; дробь; пуля» → nʹalǝŋ juɤ «шомпол», мн. nʹal «стрела» → Ø, э., м. nal «стрела» → Ø;
-
• х. pǝl ~ pǝt «ухо; слух» → pǝlǝŋ ~ pǝtǝŋ «наушник; ручка (кастрюли, чайника)», мн. palʹ – pälʹ «ухо» → pälʹǝŋ ~ pälʹiŋ «чуткий; ушастый» – э., м. pile «ухо» → Ø;
-
• х. pä ~ päŋ «палец» → paŋǝŋ ~ päŋǝŋ «перчатка» – мн. tulʹowįl «палец» → tulʹowįlįŋ «перчатка»;
-
• х. įlt «вязь между копельями саней» → įltǝŋ : įltǝŋ juɤ «спинка у розвальней, скрепленная вязью» и др.
В эту же группу следует отнести образования-номинанты, первым компонентом которых является производное прилагательное с суффиксом -ŋ , а вторым – существительное:
-
• мн. et «ночь» → ętaŋ hotal «сутки»;
-
• мн. jurt «друг; товарищ» → jurtįŋ n ʹ awramiɤ «близнецы»;
-
• х. jimǝŋ «святой; священный» → jimǝŋ ķotl «праздник».
-
4. Прилагательные от существительных, обозначающие признак (позитивный или негативный) по наличию в данном предмете:
-
• х. jŏr «гордость; спесь; надменность» → jŏrǝŋ «гордый; горделивый; спесивый; надменный» – мн. jor «гордость» → jorįŋ ~ jorǝŋ «гордый»;
-
• х. jäɤǝl «вид орнамента» → jäɤlǝŋ «пестрый» ~ jaɤlǝŋ «со звездочкой на лбу (о животных)»;
-
• мн. sim «сердце» → simįŋ ~ sǝmǝŋ «сердечный» – х. sǝm «сердце» → sǝmǝŋ «смелый», sǝmǝŋ čop «грудная часть корпуса человека или животного» – э. s ʹ ed ʹ ej , м. s ʹ ed ʹ i «сердце»;
-
• х. jurǝķ «толк; смысл; разумение» → jurķǝŋ «толковый; смышленый; сообразительный» – э. jorok «умение; способность; навык; сноровка; опыт» → э. д. jorokoŋ , э. л. jorokov «умелый; способный; опытный»;
-
• мн. pem «ложь; обман; притворство» → pemįŋ «лживый» и др.
-
5. Прилагательные от глагольных основ со значениями «испытывающий действие,
названное производящей основой» или «исполняющий действие, названное производящей основой». В мордовских языках в таких соответствиях производящая основа сохраняется в других образованиях:
-
• х. kǝčäŋ ~ kǝčaŋ ~ kǝšăŋ «больной, нездоровый» ← kǝčäɤtǝtä ~ kǝšatta «ушибить, повредить; ушибиться»; э. keš- , м. kš- (> э. kešnʹams- , м. kšnʹams- «чихать»;
-
• мн. wol ʹ kįŋ ~ wol ʹ kǝŋ «скользкий» ← wol ʹ kuŋkwe «скользить» – э. val- (> valan ʹ a «гладкий»);
-
• х. nʹirǝŋ «злой; упрямый; непоседливый» ← nʹirta «корить; укорять; упрекать», мн. kantįŋ «злобный» ← kant «злость»;
-
• х. kölleŋ «пристань (место стоянки лодок на берегу реки)» ← kölǝɤtä ~ kŏlǝɤta «заехать; пристать к берегу; подняться на берег» – э. kel- (> kelems «идти вброд»);
-
• х. kŭrmeŋ ~ kŭrmăŋ «быстрый на шаг, способный быстро идти шагом» ← kŭrnäɤtǝtä «шагать; шагнуть»;
-
• х. kŭeŋ «хмельной; крепкий (о напитке)» ← kŭttʹǝta «опьянеть»;
-
• х. jiseŋ «плаксивый» ← jistä «выть; плакать»;
-
• х. jaseŋ ~ jäseŋ «сказание» ← jasteta «сказать; сообщить; говорить; рассказывать»;
-
• х. jasneŋ «словоохотливый» ← jasnita «поносить; хулить за глаза; оговорить; оклеветать» и др.
-
6. В эрзянском языке (в некоторых говорах) суффикс -ŋ выступает в качестве словообразовательного при образовании глаголов:
-
• э. д. kelʹeŋems , э. л. kelʹemems , м. kelʹemǝms «расшириться» (< * keleŋ «широкий»);
-
• э. д. načkoŋoms , э. л. načkomoms , м. načkǝmǝms «намокнукть» (< * načkoŋ «мокрый; влажный»);
-
• э. д. vidʹeŋems , э. л. vidʹemems , м. vidʹǝmǝms «выпрямиться; стать прямым» (< * vidʹeŋ «прямой»);
-
• э. д. potoŋoms , э. л. potomoms , м. potǝmǝms «утихнуть; успокоиться» (< * potoŋ «спокойный»);
-
• э. д. vieŋems , э. л. viemems «усилиться» (< * vieŋ «сильный») и др.
-
7. В эрзянском языке (в некоторых говорах) суффикс -ŋ получает отражение в качестве словообразовательного суффикса при образовании делительных числительных, в хантыйском и мансийском языках ему соответствуют -ɤǝ (х.), -ɤ , įɤ (мн.). Например:
-
• э. д. nʹilʹeŋ «на четыре (части)» ← nʹilʹe «четыре», э. л. nʹilʹev , м. nʹilʹev – мн. nʹilaɤ 6 «на четыре (части)» ← nʹila «четыре» – х. nǝlǝɤǝ7 «на четыре (части)» ← nǝlǝ «четыре»;
-
• э. д. kolmoŋ «на три (части)» ← э. kolmo , м. kolma «три», э., м. kolmov – мн. xurǝmįɤ «на три (части)» ← xurǝm «три»;
-
• э. д. kavtoŋ «надвое; пополам» ← kavto «два», э. л. kavtov , м. kaftǝv – х. kitɤǝ «надвое; пополам» ← kit «два» – мн. kitįɤįɤ «надвое; пополам» ← kitįɤ ~ kit «два»;
-
• э. д. kotoŋ «на шесть (частей)» ← э. koto , м. kota «шесть», э. kotov , м. kotǝv – х. ķutɤǝ «на шесть (частей)» ← ķut «шесть» – мн. хōtįɤ «на шесть (частей)» ← хōt ~ хot «шесть» и др.
-
8. В мансийском языке суффикс -ŋ обнаруживается как один из компонентов инфинитивного суффикса. Например:
-
• lovinʹta ŋ kwe «читать» (э. lovoms , м. luvoms «читать; сосчитать»);
-
• pilu ŋ kwe ~ pęl ʹ ex «бояться; трусить», х. pǝlta «бояться; опасаться» (э. pelems «бояться»);
-
• tolu ŋ kwe «таять» (э., м. solams «таять»);
кУ) Финно – угорский мир. 2013. № 4
-
• puru ŋ kwe «кусать» (э. porems , porǝms
«грызть; есть»);
-
• ponu ŋ kwe «сучить (нитки из жил)», х. pŏntta ~ pŏnǝlta «сучить; вить; свивать» ( э., м. ponams «вить; сучить»).
Небезынтересно, что в вышеприведенных соответствиях (особенно в пунктах 1, 2) в мокшанском языке рефлексы общего словообразовательного суффикса -ŋ реализуются иначе, чем в эрзянском языке. Однако есть и общность, это заметно, когда перед суффиксом -ŋ оказывается гласный a – в этих случаях как в эрзянском, так и в мокшанском вместо -ŋ выступает суффикс –v : э. tolgav , м. tolgav «в перьях, оперившийся». В других случаях – в мокшанском языке вместо словообразовательного суффикса -ŋ мы находим суффиксы -u или -i .
Условия формирования языков финно-угорских народов и конкретные процессы развития каждого языка устранили многие черты первоначальной генетической общности, но сохранили знаковые особенности, реализующиеся в системах современных финно-угорских языков.
Чтобы ответить на вопрос, что является причиной замены словообразовательного суффикса -ŋ суффиксом -u или -i , необходимо обратиться к эрзянским говорам, сохранившим особенности мокшанского языка. В этих говорах произношение гласного u вместо i характерно для определенной группы слов. Обратим внимание на случаи вроде tʹikšuv (м. tʹišu ) «травянистый», virʹu (м. virʹu ) «лесистый», где мокшанскому u или i соответствуют также эти звуки. Ср.: м. virʹu (< * virʹuv «лесистый»), vedʹu (< vedʹuv «водянистый»). Переход * i в u в мокшанском языке есть результат замены общемордовского ŋ другими согласными. Этот носовой согласный при исчезновении в конце слова заменился двумя звуками:
-
а) если в соседстве были гласные переднего ряда, то ŋ под влиянием предыдущего
гласного терял нозальность и переходил в i : * virʹiŋ > * virʹij > virʹi «в лес»;
-
б) если этому звуку предшествовал лабиализованный гласный, то ŋ под влиянием предшествующего гласного стал произноситься в виде звука v : * louŋ > * lovuv > lovu «снежный». Однако такая позиционная замена ŋ впоследствии в мокшанском языке стала нарушаться. Происходило обобщение, обязанное действию аналогии, в пользу v за счет j . Так, под воздействием форм * kuduv (< * kuduŋ «в дом»), * lovuv (< * lovuŋ «снежный») появились формы типа * virʹiv (< * virʹiŋ «лесистый»), * velʹiv (< * velʹiŋ «в село»). Примечательно, что такие сдвиги отмечаются в мокшанском языке лишь в словах со значением «обладающий чем-либо», тогда как в лативных формах «по направлению к чему, куда» обобщение в пользу v не происходит. Ср.:
-
а) * virʹiŋ > * virʹij > * virʹiv > virʹiu «лесистый» (современная форма);
-
* verʹiŋ > * verʹij > * verʹiv > verʹu «кровавый, кровянистый» (современная форма);
-
* tʹišiŋ > * tʹišij > * tʹišiv > tʹišu «травянистый» (современная форма);
-
б) * virʹiŋ > * virʹij > * virʹiv > virʹi «в лес» (современная форма);
-
* velʹiŋ > * vilʹij > * vilʹiv > vilʹi «в село» (современная форма);
-
* pirʹiŋ > * pirʹij > * pirʹiv > pirʹi «в огород» (современная форма).
Словоформы в группе «б» (со значением направления) не подверглись обобщению, очевидно, по семантическим признакам. Если бы сдвиг захватил их, то в мокшанском языке образовалось бы значительное количество морфологических омонимов, препятствующих точному пониманию смысла словоформы.
Появление суффикса -v вместо ожидаемого -j в прилагательных, имеющих значение «изобилующий чем-либо», вызвало фонетическое явление, когда гласная переднего образования i под влиянием последующего вновь возникшего губного согласного переходит в u – гласную фонему заднего ряда. Это передвижение обусловлено тем, что артикуляция глас- ного i стала полностью сливаться с артикуляцией последующего согласного v, являющегося словообразовательным суффиксом; произошла регрессивная губная ассимиляция. Передвижку гласного i в u можно представить в такой последовательности: *iŋ > *ij > *iv > *uv > *uu > u (*keviŋ > *kevij > *keviv > *kevuv > *kevuu > *kevu «каменистый»).
Как видно из примеров, передвижка гласного i в u , в свою очередь, явилась причиной и условием изменения словообразовательного суффикса -v . Последний, находясь после лабиализованного гласного, оказался не слоговым гласным параллельно слоговому. В результате в рассматриваемых примерах получились два близких по образованию звука и один из них (конечный u ) уподобился предшествующему гласному полного образования. Поэтому вместо ожидаемых словоформ vedʹuv , verʹuv в мокшанском языке стали возможными формы слов vedʹu , verʹu и т. д. Такова, на наш взгляд, причина появления гласного u , выполняющего роль словообразовательного суффикса в только что приведенных словоформах.
Обратившись к эрзянским говорам, сохранившим особенности мокшанского языка, мы убеждаемся, что гласный u (< *i) в качестве суффикса в словах типа verʹuv, pirʹuv и т. п. представляет собой не что иное, как наследие мокшанского языка, который на протяжении более чем трех столетий своего существования в данной позиции хорошо сохранился, оказав упорное сопротивление влиянию других говоров. Причем передвижение гласного i в u захватило и лативные формы. Например:
-
а) * virʹiŋ > * virʹij > * virʹiv > virʹuv «лесистый; в лес», м. virʹu «лесистый», virʹi «в лес»;
-
б) * verʹiŋ > * verʹij > * verʹiv > verʹuv «кровавый; кровянистый», м. vеrʹu «кровавый»;
-
в) * kuduŋ > kuduv «в дом; домой», м. kudu «в дом; домой», э. л. kuduv , э. д. kuduŋ «в дом; домой».
Итак, все приведенные выше образования дают суммарную оценку сохранности финно-угорского (и уральского) словообразовательного суффикса -ŋ . Его потенциальные возможности в сравниваемых языках, особенно в хантыйском и мансийском, значительны.
Поступила 29.10.2013
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
-
м. – мокшанский язык;
мн. – мансийский язык;
мр. – марийский язык;
см. – саамский язык;
уд. д. – удмуртский диалектный язык;
-
х. – хантыйский язык;
-
э. – эрзянский язык;
-
э. д. – эрзянский диалектный язык;
-
э. л. – эрзянский литературный язык.
Список литературы Словообразовательные потенции прафинно-угорского словообразовательного суффикса - в мордовских, хантыйском и мансийском языках
- Кельмаков, В. К. Диалектная и историческая фонетика удмуртского языка/В. К. Кельмаков. -Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2003. -С. 176-180.
- Керт, Г. М. Саамский язык (кильдинский диалект)/Г. М. Керт. -Л.: Наука. Ленинград. отд., 1971. -355 с.
- Лыткин, В. И. Историческая грамматика коми языка. Ч. 1. Введение. Фонетика/В. И. Лыткин. -Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. -С. 109-110.
- Марийско-русский словарь. -М.: ГИС, 1956. -863 с.
- Марков, Ф. П. Приалатырский диалект эрзя-мордовского языка//Очерки мордовских диалектов. -Саранск, 1961. -С. 7-99.
- Основы финно-угорского языкознания. -М.: Наука, 1974. -Т. 1.
- Ромбандеева, Е. И. Мансийский (вогульский) язык/Е. И. Ромбандеева. -М.: Наука, 1973. -208 с.
- Терешкин, Н. И. Словарь восточно-хантыйских диалектов/Н. И. Терешкин. -Л.: Наука. Ленингр. отд., 1981. -544 с.