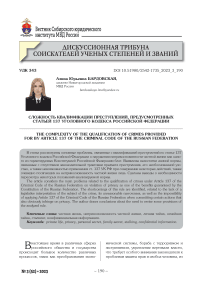Сложность квалификации преступлений, предусмотренных статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации
Автор: Бардовская А.Ю.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 3 (52), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с квалификацией преступлений по статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении неприкосновенности частной жизни как одного из гарантируемых Конституцией Российской Федерации благ. Выявлены недостатки данной нормы, связанные с отсутствием законодательной трактовки предмета преступления, его необоснованной узостью, а также невозможностью применения ст. 137 УК РФ при совершении некоторых действий, также очевидно посягающих на неприкосновенность частной жизни лица. Сделаны выводы о необходимости пересмотра некоторых положений анализируемой нормы.
Частная жизнь, неприкосновенность частной жизни, личная тайна, семейная тайна, сталкинг, конфиденциальная информация
Короткий адрес: https://sciup.org/140301186
IDR: 140301186 | УДК: 343 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_3_190
Текст научной статьи Сложность квалификации преступлений, предусмотренных статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации
Внастоящее время в различных сферах российского общества и государства происходит большое количество различных процессов, таких как преобразования эконо- мической системы, борьба с терроризмом и экстремизмом, укрепление вертикали власти, что требует особого внимания законодателя к проблемам защиты прав и свобод человека, из которых главенствующее значение имеют конституционные права и свободы, в том числе, право на неприкосновенность частной жизни.
Различные авторы трактуют частную жизнь по-разному. Так, П.Н. Макеев считает, что это система социально-правовых признаков, отражающих индивидуальность человека и создающих ему некий иммунитет от других членов общества и самого государства [7, с. 3]. Автор отмечает, что частная жизнь может пониматься в двух смыслах: как внутренняя сфера жизнедеятельности человека, особенности его семейной и частной жизни, которые он не хотел бы делать достоянием общества, а также как правомочия, позволяющие человеку проявлять свою автономию среди других людей.
Э.Ю. Латыпова считает, что частная жизнь включает в себя сферу внутреннего существования личности, а также ее семью, дом, отношения с другими людьми и иные аспекты, недоступные посторонним [6].
Б.Н. Кадников полагает, что право на неприкосновенность частной жизни обозначает объем правомочий конкретного человека на закрытость и защищенность определенных сторон его жизни от общества, государства и других людей, подчеркивая при этом, что именно с помощью этого права человек в полной мере может осознать свое мироощущение и личные интересы [4, с. 3].
Как мы видим, отсутствие четкого законодательного понятия частной жизни порождает большое количество научных точек зрения на трактовку частной жизни, и зачастую они по-разному определяют это понятие. В то же время общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации гражданами своего права на неприкосновенность частной жизни, ввиду своей важности и значимости находятся под охраной уголовного закона и являются объектом одного из преступлений, предусмотренных УК РФ, а именно входящей в его структуру статьи 137, практику применения которой в России нельзя назвать сформированной, в том числе, из-за некоторых дефектов законодательства [16].
Так, за 2022 год по ст. 137 УК РФ осуждены всего лишь 235 человек, из них 9 – к реальному лишению свободы, 14 – к лишению свободы условно, 1 – к ограничению свободы, 104 лицам назначен штраф, 20 – исправительные работы, 70 – обязательные работы1. Очевидно, что при важности такого объекта уголовно-правовой охраны, как частная жизнь, правоприменитель в целом достаточно мягко относится к его нарушителям. Все это определяет важность и актуальность как конкретизации понятия частной жизни, так и решения иных проблем квалификации преступлений, предусмотренных ст. 137 УК РФ, для обеспечения надлежащей уголовно-правовой охраны указанных общественных отношений.
Как отмечает В.А. Гайдукова, при анализе содержание понятия «частная жизнь», на первый взгляд может показаться, что сюда будут входить только сведения о внутренних аспектах жизни человека, в частности его сексуальных связях, проявлениях его права на имя, вопросах репутации, чести и достоинства, половой самоидентификации и т.д. [2, с. 362-366] В то же время автор ставит под сомнение ограничение частной жизни только внутренней сферой человека и исключение внешнего мира, ссылаясь на положения ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, где в контексте права на неприкосновенность частной жизни говорится о свободе коммуникаций с иными людьми, а также о социальных аспектах частной жизни. Иными словами, рассматриваемое право раскрывается автором также через возможность человека вступать в различные социальные связи с другими людьми, осуществлять различную общественную деятельность, что следует учитывать правоприменителям при квалификации преступлений по ст. 137 УК РФ.
С этой позицией в целом можно согласиться. При этом отметим, что Т.Ю. Сапран-кова, анализирующая практику применения ст. 137 УК РФ, сделала вывод, что в большинстве случаев незаконному разглашению подлежат сведения именно об интимных от- ношениях и сторонах жизни потерпевшего (в частности, его изображения в обнаженном виде или соответствующие видеозаписи), а также о состоянии его здоровья, разводе или вступлении в брак, участии в уголовном судопроизводстве и т.д. [10, с. 403-406].
Кроме этого, как мы видим, в ст. 137 УК РФ частная жизнь лица определяется через личную и семейную тайну, поэтому данные понятия также нуждаются в трактовке. А.М. Бахтигареев, анализируя работы юристов-теоретиков, делает вывод, что личная и семейная тайна – это конфиденциальная информация о событиях и действиях лица или группы лиц, которые сохраняют ее от иных субъектов и не желают, чтобы данная информация была разглашена [1, с. 75-78]. При этом отношение информации только к одному лицу будет составлять его личную тайну, а если информация относится к отдельно взятой семье – это будет семейная тайна.
Одна из основных проблем, поднимаемых правоведами, изучающими особенности применения ст. 137 УК РФ, – это решение вопроса о том, являются ли конкретные сведения личной или семейной тайной лица. К сожалению, ни действующее законодательство, ни разъяснения Пленума Верховного Суда РФ ответа на него не дают. Лишь Конституционный Суд РФ в определении от 28 июня 2012 г. N 1253-О указал, что само лицо или семья могут определить, должны ли определенные сведения, имеющие отношение к его частной жизни, оставаться в тайне от других лиц, и не могут собираться, храниться или использоваться иными лицами ввиду своей конституционной защиты1.
И.В. Дубенский при этом обращает внимание на несоответствие положений ст. 137 УК РФ конституционным нормам: так, в ч. 1 ст. 23 Конституции РФ указано о правовой защите неприкосновенности частной жизни человека, его личной и семейной тайны, а также защите чести и доброго имени. В то же время предмет анализируемого преступления ограничен, как мы выяснили, только личной и семейной тайной, следовательно, далеко не вся частная жизнь находится под защитой уголовного закона [3, с. 222-225]. Логичным представляется изменение диспозиции ст. 137 УК РФ путем приведения ее в соответствие с положениями Конституции РФ, а именно исключения упоминания о личной и семейной тайне, необоснованно сужающего круг возможных преступных посягательств.
Некоторые вопросы у правоприменителей могут возникнуть в связи с квалификацией по ст. 137 УК РФ действий представителей СМИ, освещающих ход и результаты уголовного судопроизводства. Так, Е.С. Пальцева отмечает, что зачастую журналисты используют в публикациях сведения из уголовных дел, приговоры по которым еще не вступили в законную силу, а значит, не могут считаться состоявшимися [8, с. 26-29]. При этом гражданско-правовые способы защиты чести и достоинства в данном случае действовать не будут, так как в ст. 152 ГК РФ речь идет о сведениях, не соответствующих действительности.
Считаем, что такие действия очевидно являются неправомерными, поскольку до вступления приговора в законную силу человек считается невиновным. Между тем не ясно, имеются ли в таком случае основания для привлечения журналиста к ответственности по ст. 137 УК РФ, поскольку до сих пор открыт вопрос: относятся ли сведения об уголовном преследовании лица к его частной жизни.
С одной стороны, на телевидении идет много передач, связанных с событиями криминальной хроники, в том числе имеющими широкий общественный резонанс, и в этом случае широкую огласку получает не только содеянное лицом, но и характеристики его личности, психологические особенности и иные обстоятельства его жизни, хотя приговор может на этот момент еще не вступить в законную силу. Получается, что сведения о частной жизни лица так или иначе становятся достоянием большого круга граждан.
Кроме этого в России установлен гласный характер уголовного судопроизводства, предполагающий, что деятельность органов уголовного судопроизводства открыта для всех заинтересованных лиц, в том числе и не имеющих никакого отношения к уголовному делу. В некоторых случаях представители СМИ даже участвуют в совещаниях, проводимых правоохранительными органами.
С другой стороны, мы считаем, что сведения о фактах осуществления в отношение лица уголовного преследования носят частный характер, поскольку в большинстве случаев лицо заинтересовано в их неразглашении, а значит, защита таких сведений также гарантируется Конституцией РФ. Если же приговор еще не вступил в законную силу, всегда остается вероятность, что он будет отменен или изменен, следовательно, разглашение соответствующих сведений на этапе незавершенного уголовного процесса может опорочить репутацию человека.
Помимо этого зачастую при освещении в СМИ хода расследования уголовного дела затрагивается также и потерпевший. Анализируя положения ст. 137 УК РФ, мы видим, что законодатель в ч. 3 упомянул лишь несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 16-летнего возраста. Это вполне разумно, поскольку интересы таких лиц ввиду социально-правовой незащищенности и психологической незрелости в целом защищаются законодателем усиленно. В то же время полагаем, что частная жизнь совершеннолетних участников уголовного процесса (как потерпевших, так и иных) также должна охраняться уголовным законом, и доведение таких сведений до общественности возможно только с их согласия.
На основании этого считаем, что в целях повышения качества применения ст. 137 УК РФ и разрешения имеющихся на практике проблем необходимо в примечании к данной норме конкретизировать сведения, составляющие частную жизнь лица, с обязательным включением информации об его уголовном преследовании, а также участии в уголовном процессе в ином статусе.
Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, позволяет сделать вывод, что уголовная ответственность возможна лишь в случае совершения таких альтернативных действий, как собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, при отсутствии согласия на это указанного лица. В то же время в ч. 1 ст. 24 Конституции РФ говорится о недопустимости собирания, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица. Получается, что уголовный закон признает преступными только некоторые из действий, которые могут быть совершены с такой информацией: например, лицо, хранящее соответствующие сведения и не распространяющее их, к уголовной ответственности привлечь не удастся, хотя его действия несут в себе общественную опасность и также должны получить уголовно-правовую оценку. В связи с этим считаем, что необходимо включить в перечень возможных действий, составляющих объективную сторону ст. 137 УК РФ, также хранение и использование информации, составляющей предмет преступления.
Достаточно интересное исследование по вопросам применения ст. 137 УК РФ провела Т.И. Сапранкова, указывающая, что действующей редакцией указанной нормы не охватываются действия, называемые «стал-кингом», то есть целенаправленное преследование лица, сопровождающееся высказыванием в его адрес угроз, оскорблений или даже применением насилия [9, с. 389-391]. Близость таких действий к действиям, составляющим объективную сторону ст. 137 УК РФ, по мнению автора, очевидна: в их основе также лежит враждебное отношение к потерпевшему, личная неприязнь, ревность и иные подобные эмоции. Виновный осознает, что вмешивается в сферу частной жизни жертвы, поскольку также может получать о ней определенные сведения (например, наблюдая за жилищем или встречами потерпевшего). Таким образом, подобные действия, совершающиеся против его воли, препятствуют осознанию и ощущению человеком своей личной свободы и неприкосновенно- сти, а также нарушают его эмоциональную стабильность.
Интересно, что в законодательствах ряда стран «сталкинг» является уголовно наказуемым: например, в Бельгии, Голландии, Польше, Германии он считается наиболее тяжкой разновидностью нарушения неприкосновенности частной жизни. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо устанавливать характер и регулярность вмешательств (например, назойливых телефонных звонков), активность противозаконных действий (подкарауливание около дома и т.д.).
В России на данный момент ответственность за такие действия должным образом не урегулирована. Согласно ч. 1 ст. 152.2 ГК РФ без согласия гражданина нельзя собирать, хранить, распространять и использовать информацию о частной жизни лица (что корреспондирует ранее рассмотренной нами норме Конституции РФ), однако анализ этого и иных положений показывает, что в основном речь идет о предании информации огласке, о сообщении ее неопределенному кругу лиц. При этом вышеуказанная норма ГК РФ эффективна скорее применительно к ситуациям использования полученных сведений для совершения значимых с правовой точки зрения действий либо привлечения внимания общества к определенному человеку. В то же время сталкинг носит несколько иные цели и имеет другой, более личный характер.
В связи с этим автор считает, что ст. 137 УК РФ необходимо дополнить частью 1.1, где будет предусмотрена ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, сопряженное с систематическим преследованием потерпевшего или иным вмешательством в его частную жизнь, и установить в данной норме более строгое по сравнению с простым составом наказание, что обусловлено агрессивностью и навязчивостью, а значит, большей общественной опасностью такого поведения.
Также Т.Ю. Сапранкова полагает, что в примечании к анализируемой статье необхо- димо закрепить трактовки систематического преследования или иного вмешательства в личную жизнь потерпевшего.
Некоторые сложности связаны также с квалификацией действий виновного по ч. 3 ст. 137 УК РФ, где предусмотрено обязательное наступление в результате противоправных действий иных тяжких последствий, помимо перечисленных, а именно причинения вреда здоровью потерпевшего, психического расстройства несовершеннолетнего. Понятие тяжких последствий используется и в некоторых иных уголовно-правовых нормах, и в каждом случае оно является оценочным: вопрос о том, следует ли относить конкретные последствия к тяжким уполномочен решать только суд, рассматривающий уголовное дело.
А.М. Климанов и Д.В. Пешков в качестве примеров тяжких последствий приводят самоубийство потерпевшего или кого-то из членов его семьи, наступление у указанных лиц психического расстройства, появление у них необходимости изменить свои личные данные или переехать в другое место жительства [5, с. 98-102]. Авторы также обращают внимание на обязательное установление судом причинно-следственной связи между действиями виновного и указанными последствиями. Мы с данной точкой зрения согласны, и считаем, что более правильным было бы закрепить в ч. 3 ст. 137 УК РФ наступление психического расстройства не только у несовершеннолетнего, но и у лиц старше 18 лет, в том числе у самого потерпевшего или членов его семьи. Кроме этого считаем, что пункт с примерным перечнем возможных тяжких последствий указанного преступления необходимо включить в текст постановления Пленума Верховного Суда РФ, обобщающего судебную практику применения норм о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина1.
Таким образом, основными проблемами квалификации преступлений, предусмотренных ст. 137 УК РФ, является ограниченность предмета преступления только сведениями, составляющими личную и семейную тайну, отсутствие как в законодательстве в целом, так и в уголовном законе трактовки понятия «частная жизнь», сложность привлечения к ответственности по данной норме лица, осуществляющего систематическое преследование потерпевшего, а также нерешенность вопроса о наличии состава преступления в действиях представителей СМИ, освещающих ход уголовного судопроизводства и информацию о его участниках до момента вступления приговора в законную силу.
Среди направлений возможного совершенствования положений ст. 137 УК РФ, таким образом, необходимо назвать отказ от упоминания личной и семейной тайны, необоснованно сужающей круг информации, составляющей предмет преступления, закрепление в примечании к указанной статье трактовки частной жизни и ее неприкосновенности, дополнение данной статьи частью, предусматривающей ответственность за распространение сведений о частной жизни лица, сопряженное с систематическим преследованием потерпевшего, а также закрепление в акте толкования Верховного Cуда РФ примерного круга возможных тяжких последствий анализируемого преступления.
Список литературы Сложность квалификации преступлений, предусмотренных статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации
- Бахтигареев, А.М. Определение содержания личной и семейной тайны в целях квалификации деяний в соответствии со статьей 137 уголовного кодекса Российской Федерации / А.М. Бахтигареев // Юридическая наука. - 2019. - N 12. - С. 75-78.
- Гайдукова, В.А. Современные проблемы реализации права человека на неприкосновенность частной жизни, уважение частной и семейной жизни / В.А Гайдукова // Наукосфера. - 2022. - N 1 (1). - С. 362-366.
- Дубенский, И.В. Направления совершенствования ст. 137 УК РФ / И.В. Дубенский // Молодой ученый. - 2018. - N 22 (208). - С. 222-225.
- Кадников, Б.Н. Уголовно-правовая охрана конституционного права граждан на неприкосновенность частной жизни: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Б.Н. Кадников. - М., 2008. - 196 с.
- Климанов, А.М. Некоторые вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ / А.М. Климанов, Д.В. Пешков // Теория и практика общественного развития. - 2015. - N 9. - С. 98-102.
- Латыпова, Э.Ю. Некоторые аспекты уголовной ответственности за деяния, посягающие на неприкосновенность частной жизни / Э. Ю. Латыпова // Oeconomia et Jus. - 2019. - N 2. - URL: http://oeconomia-et-jus.ru/single/2019/2 (дата обращения: 16.03.2023).
- Макеев, П.Н. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.08 / П.Н. Макеев. - М., 2006. - 187 с.
- Пальцева, Е.С. Информационная прозрачность правосудия: пределы и ограничения / Е.С. Пальцева // Информационное право. - 2013. - N 4. - С. 26-29.
- Сапранкова, Т.Ю. К вопросу о совершенствовании направлений уголовно-правовой охраны неприкосновенности частной жизни / Т.Ю. Сапранкова // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - N3. - С. 389-391.
- Сапранкова, Т.Ю. Особенности субъективной стороны нарушения неприкосновенности частной жизни / Т.Ю. Сапранкова // Балтийский гуманитарный журнал. - 2016. - N 4 (17). - С. 403-406.