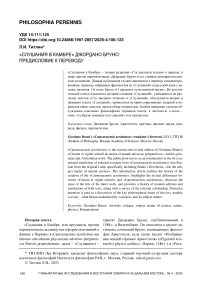«Слушания в Камбре» Джордано Бруно: предисловие к переводу
Автор: Титлин Л.И.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
«Слушания в Камбре» – вторая редакция «Ста двадцати тезисов о природе и мире против перипатетиков» Джордано Бруно и его главное антиаристотелевское сочинение. Данная публикация служит введением к первому комментированному переводу избранных фрагментов из «Слушаний» на русский язык с латыни, включая 1-й тезис Бруно «О предмете естественной науки». Во вступительной статье излагается история создания «Слушаний», указывается на различие текстов «Ста двадцати тезисов» и «Слушаний», обсуждается вопрос о названии текста «Слушаний», приводится история современных изданий и переводов обоих текстов, дается обзор литературы. Особое внимание уделено обсуждению ключевых философских терминов текста, в частности, scientia – тому, что Бруно понимал под «наукой» и ее предметом.
Джордано Бруно, Аристотель, критика, предмет науки, природа, физика, перипатетизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170211486
IDR: 170211486 | УДК: 14:111:125 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-4/106-123
Текст научной статьи «Слушания в Камбре» Джордано Бруно: предисловие к переводу
История текста
«Слушания в Камбре, или аргументы против перипатетиков, выдвинутые в форме положений о физике в Париже» («Camoeracensis acrotismus seu rationes articulorum physicorum adversus peripateti-cos Parisiis propositorum», далее – «Слушания») – трактат Джордано Бруно, опубликованный в 1588 г. в Виттенберге. Он относится к группе латинских сочинений Бруно, посвященных философии Аристотеля, куда также входят «Изображение лекций о физике Аристотеля» («Figuratio aris-totelici physici auditus», Париж, 1586 г.) и «Разъ- ясненные книги о физике Аристотеля» («Libri phys-icorum Aristotelis explanati», не было опубликовано при жизни Бруно, издано в: [22]). Хотя на критику системы Аристотеля так или иначе направлены многие труды Бруно (в частности «О бесконечности, вселенной и мирах», «Пир на пепле», «О причине начале и едином»1), «Слушания» – единственная его работа, целиком и полностью посвященная деконструкции аристотелевской физики. «Слушания» представляют собой второе издание «Ста двадцати тезисов о природе и мире против перипатетиков», вышедших ограниченным тиражом в 1586 г. в Париже («Centum et viginti articuli de natura et mundo adversus peripateticos», далее – «Сто двадцать тезисов»). «Сто двадцать тезисов» – это небольшой трактат на 9 листах, один экземпляр которого ныне хранится в Британском музее. Главное отличие изданий в том, что «Слушания» добавляют к имеющимся тезисам пояснительные доводы, названные в тексте «краткими» (breves adjectes ra-tiones), что, однако, вместе с прочими дополнениями увеличивает объем текста до 137 страниц (по изданию [21]). Как отмечается в издании [35], к этим дополнениям относится письмо «Парижанам и другим философам из благороднейшего царства Галлии…», «Страж, или апологетическая речь Иоанна Геннеквина», каталог тезисов, а также «Пифагорейские и платонические утверждения, не принимаемые перипатетиками» (30 тезисов, которых придерживался Бруно и которые он никак не раскрывает в дальнейшем в своем сочинении, сгруппированные по 10 отделам: «О природе», «О вселенной» и «О мире»).
Изначально Бруно планировал защищать свои 120 тезисов в Коллеж де Камбре Парижского университета (Collège de Cambrai). Слово «Camoeracensis» в названии трактата отсылает к латинизированной форме названия этого коллежа. Слово «acrotismus» в названии трактата, по-види-мому, встречается только у Бруно и только в этом тексте [35, p. 107]. Очевидно, оно образовано от греческого корня, наиболее вероятно – от слова «ἀκρόασις» («слушание», «чтение», «лекция» – «Физика» Аристотеля в дошедших до нас списках названа «Φυσικὴ ἀκρόασις», что было передано на латынь как «Naturalis auscultatio» и может быть лучше всего переведено как «Лекции о физике»). В этом случае «acrotismus» можно понимать как «публичные слушания [тезисов]». Также воз можно, что слово было образовано от греческого
«ἄκρον» («вершина», «высота», «высшая степень»), и тогда «acrotismus» будет означать либо главные пункты полемики (т.е. сами 120 тезисов), либо просто «жаркий диспут», как высшую степень полемики вокруг самых остро стоящих тезисов.
Слушания были назначены на 28 мая 1586 г. на неделе Пятидесятницы и должны были продлиться несколько дней, однако из-за жесткой оппозиции, с которой столкнулся Бруно, а также из-за конфликта с Фабрицио Морденте2, он вскорости покинул Париж. Перед диспутом ученик Бруно Жан Эннекен зачитал вводную речь (по содержанию речи и манере письма ясно, что ее автором был сам Бруно), которая была опубликована в издании 1588 г. под названием «Страж, или апологетическая речь Иоанна Геннеквина3».
В издании 1588 г. Бруно сгруппировал все тезисы уже в список из 80 (в издании [21] они сопоставлены с изначальными 120 тезисами), из них 50 посвящены «Физике», и 30 – «О небе». Бруно в своей критике следует порядку изложения материала в книгах Аристотеля.
Обзор изданий и литературы
Старые печатные издания «Слушаний» подробно рассматриваются в библиографической публикации, подготовленной Ритой Стурлезе [33]. Первое современное переиздание «Слушаний» вышло в 1834 г. под редакцией Августа Фридриха Гфрёрера [20], однако он не указывает, на основании какого из изначальных экземпляров оно выполнено. Следующее было подготовлено Франческо Фьорентино в 1879 г. и включено в состав наиболее авторитетного до недавнего времени издания латинских трудов Дж. Бруно «Opera latine conscripta» [21]. Фьорентино лишь указывает, что пользовался одним из экземпляров XVI в. «Сто двадцать тезисов» были переведены на итальянский и изданы с параллельным латинским текстом Карло Монти и опубликованы посмертно под редакцией Эудженио Каноне в 2007 г. [15]. В 2009 г. Барбара Амато выполнила первый академический перевод «Слушаний» на итальянский язык, снабженный обширным критическим аппаратом [17]. Существует также перевод
Гвидо Дель Джудиче [16], вышедший годом ранее, однако, как отмечает Филиппо Мигнини [32] с аргументацией, основанной на анализе конкретных отрывков переводов, работа Дель Джудиче полностью основана на некорректных заимствованиях перевода «Слушаний» Амато из ее докторской диссертации и «Ста двадцати тезисов» Монти. Миг-нини также демонстрирует, что предисловие Дель Джудиче и его работа с текстом в целом не выдерживают никакой академической критики.
Физика и космология Бруно достаточно много исследовались, в частности – с опорой на текст «Слушаний», хотя сам текст до сих пор не становился объектом отдельного исследования. К наиболее важным работам на эту тему следует отнести труды Элен Ведрин [36; 37; 38], монографию Поля-Анри Мишеля о космологии Бруно [30] (доступна также в переводе на английский язык [31]), его статью об атомизме у Бруно [29], статьи Мигеля Гранады о гелиоцентризме [27], пространстве, движении [28; 26] и времени [25] у Бруно, монографию Антонеллы Дель Прете [24], в которой она анализирует проблему бесконечных миров у Бруно, монографию Тристана Дагрона [23], посвященную натурфилософии Бруно, в которой он, в частности, обсуждает проблему единства бытия в системе философа. Важным вкладом также можно считать выявление Мариассунтой Пикарди как скрытых, так и явных текстов, на которые опирается сам Бруно в «Слушаниях» [34]. Из отечественных исследователей Бруно следует упомянуть прежде всего Б.Г. Кузнецова [12], А.X. Горфункеля [7; 8; 9], В.П. Визгина [6].
К наиболее значимым современным исследователям, работающим над проблемой критики Аристотеля со стороны Дж. Бруно, можно отнести П.Р. Блюма, автора единственной монографии, посвященной тому, как Бруно понимал и критиковал Аристотеля [14]4, и Б. Амато.
Содержание фрагмента
В «Слушаниях» Бруно рассматривает, среди прочего, такие важные темы, как соотношение материи и формы, проблемы движения, бесконечности, места, пустоты, времени, «первого движения» и «первого двигателя» (разделы, посвященные «Физике» Аристотеля), а также опровергает космологическую систему Аристотеля, как она пред-ставлена в «О небе», Ей Бруно противопоставляет учения о единстве Вселенной и бесчисленных мирах.
В приложении к данной статье мы публикуем свой перевод следующих фрагментов из «Слушаний»: письма Бруно парижским и прочим французским философам, королю Франции Генриху III, ректору Парижского университета Жану Филь-саку, речь, произнесенная Жаном Эннекеном перед дебатами, 30 пифагорейских и платонических тезисов о природе, Вселенной и мире, которые Бруно противопоставляет воззрениям перипатетиков, и, наконец, 1-й из 80 тезисов («О предмете естественной науки»), т.е. всю начальную часть текста вплоть до начала 2-го тезиса. В переводе мы опускаем перечень 80 тезисов, т.к. он будет непонятен читателю без текста самих тезисов и требует отдельного большого исследования. Перевод фрагментов был выполнен по изданию [21] с привлечением экземпляра 1588 г. [19] из библиотеки Гейдельбергского университета и текста «Ста двадцати тезисов» 1586 г. [18]. Из этих фрагментов наибольший интерес представляет 1-й тезис Бруно, в котором он говорит о «предмете естественной науки» (de subjecto scientiae naturalis). Необходимо обратить внимание на перевод отдельных часто встречающихся в тексте тезиса терминов. Так, слово «subjectum» (буквально, в своем грамматическом значении, – «подлежащее»), при переводе трактата Бруно «О тенях идей» [5] мы передавали как «субъект», потому что там, в рамках мнемоники, оно обозначало своего рода «место» или даже «субстрат», к которому добавлялись или куда помещались «адъекты», или «прилагаемые». В исследуемом же тексте «subjectum» практически вплотную приближается к современному понятию «предмета». Здесь это слово практически постоянно идет в паре со словом «intentio» (букв. «намерение»), которое означает «направленность науки на [определенный предмет]».
Важно сказать и о часто употребляемом Бруно слове «scientia». Хотя он начинает свой тезис с указания на то, что философы обсуждают, возможно ли какое-либо познание (an aliquid sciatur), он быстро переходит к использованию термина «scientia». Несмотря на то, что это слово начиная с Античности употреблялось по большей части для обозначения знания вообще, из контекста становится ясно, что Бруно употребляет его в почти современном нам смысле «науки». Достаточно посмотреть на один отрывок: «Поэтому предмет науки (subjectum scientiae) и доказательного умозаключения всегда берется специфически и в единственном числе (singulariter), и никогда – во множественном или нумерически (numeraliter), ибо говорят, что [наука возможна] о Солнце в соответствии с [его] видом, или, конечно, о природе Солнца, о природе живого существа и о природе души, а о солнцах, о душе, о небе возможны всегда только описательные сочинения (historia), но не наука». Очевидно, Бруно здесь противопоставляет описательные сочинения (то, что называлось термином «historia», или, если угодно, «научные описания») «чистой» науке. Ведь в обоих случаях, строго говоря, речь идет об определенном «знании», которое Бруно уже разделяет на «научное» и «описательное». Термин «scientia» у Бруно является отражением «ἐπιστήμη» Аристотеля.
Однако «наука» у Бруно очень далека от современной. Он особо подчеркивает, что «чувственное, движимое, частное не может быть предметом науки – ни в первую, ни во вторую очередь, ни опосредованно, ни непосредственно, ни само по себе, ни акцидентально». Наука также не должна заниматься телами, и «предмет науки должен быть вечным, неизменным, истинным, постоянным, простым, единым, всегда и всюду самим собой». Бруно действительно следует за Аристотелем, который особо подчеркивал, что наука занимается общим, а не единичным, базируется на доказательных умозаключениях и должна сосредоточиться на выявлении причин вещей. Однако
Аристотель не всегда последователен и, во всяком случае, не столь жесток, как Бруно. В частности, он пишет: «Наука о природе изучает преимущественно тела и величины, их свойства и виды движения, а кроме того, начала такого рода бытия» (Аристотель, О небе, А, 1, 268а1-3 [3, c. 265]). То есть «тела и величины, их свойства и виды движения» для Аристотеля «преимущественны», а «начала такого рода бытия» оказываются чуть ли не вторичными. Бруно же максимализирует установку Аристотеля, для него наука практически сливается с метафизикой. Для Бруно предметом науки может быть только интеллигибельное, главный же предмет – абсолютная субстанция, которую он также понимает как «саму природу» (natura). Очевидно, что из науки, которая не занимается телами, ничем чувственным, материальным, не может возникнуть современная экспериментальная наука. В этом смысле Бруно оказывается оторван в идейном плане от своих современников, и на его фоне даже «скотисты и подобные им капюшонники» (имеются в виду францисканцы-последователи Иоанна Дунса Скота), утверждавшие, что возможно знание, если не наука, об индивидуальных вещах, выглядят гораздо более современно.
Приложение
Джордано Бруно
СЛУШАНИЯ В КАМБРЕ, ИЛИ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ПЕРИПАТЕТИКОВ, ВЫДВИНУТЫЕ В ФОРМЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ФИЗИКЕ В ПАРИЖЕ (ФРАГМЕНТ)
Перевод и комментарии Л.И. Титлина
ДЖОРДАНО БРУНО НОЛАНЕЦ
Парижским и прочим философам из благороднейшего царства Галлии, друзьям и защитникам догматов разумной философии
Желает здравствовать.
Хотя другие, более важные дела, помешали мне и не позволили более подробно остановиться на этом предмете, я, тем не менее, полагаю, что в какой-то мере удовлетворил Ваши ожидания, поскольку даже [эти] краткие рассуждения, одни, приложенные к некоторым из тезисов, а другие как бы предваряющие другое сказанное, должны быть более чем достаточны для пробуждения видения истины у тех, кто имеет хотя бы среднее знакомство с науками или же одарены от природы хорошим умом. Для тех же людей, которые подобны кротам, все это может быть равноценно полуденному свету.
Будьте здоровы.
ФОРМА ПОСЛАНИЯ К ЦАРЮ
ГЕНРИХУ III,
ХРИСТИАННЕЙШЕМУ ЦАРЮ ГАЛЛОВ
И ПОЛЯКОВ,
ДЖОРДАНО БРУНО НОЛАНЕЦ
С пожеланиями наилучшего здоровья
То, что продиктовано самой возглашающей природой, что испытано указующим чувством, утверждено строгим и последовательным разумом, то, что немногим передано высоким пониманием, что подвергается нападкам твердолобой заблуждающейся толпы и что пребывает в неприступной крепости истины, дабы оно не показалось оскверненным завистливым презрением, дабы не подверглось упреку по еще более неслыханной причине, дабы не было безнаказанно подавлено чьим-либо несправедливым произволом, – пусть все это будет предложено к обсуждению в главнейшем из университетов, выставлено на диспут пред более всего пригодными к такому роду деятельности, и пусть выйдет в свет под твоим покровительством, о величайший ЦАРЬ.
Будь здоров.
ФОРМА ПОСЛАНИЯ К РЕКТОРУ, ВЕЛИЧАЙШЕМУ И ПРЕВОСХОДНЕЙШЕМУ ГОСПОДИНУ Д. И. Ф.1,
РЕКТОРУ ПАРИЖСКОЙ АКАДЕМИИ ОТ ДЖОРДАНО БРУНО НОЛАНЦА С пожеланиями наилучшего здоровья.
Разве не является, о щедрейший господин, актом выдающегося человеколюбия – оказать возможное благодеяние чужеземному философу, каковое много лет назад было мне даровано с величайшей щедростью как ректорами этого университета, так и всем сообществом профессоров?
Так как Вы связали меня с собой не только неким общим человеколюбием, которым проникнуты по отношению ко всем, но и особым, отнюдь не обычным образом, когда во время как публичных, так и частных лекций Вы непрестанно оживляли мои занятия наукой присутствием ученых мужей, – настолько, что мне никогда не мог быть дан в этом доме-родителе и благодетеле наук иной, больший для чужеземца, титул, уже теперь, когда я твердо вознамерился странствовать по другим университетам и не могу и не должен тронуться в путь не простившись с Вами, я предложил этот набор тезисов для памяти и как своего рода ручательство последующего обсуждения. Если бы я мог склонить себя к тому, чтобы убедить Вас, что перипатетическая наука всегда более истинна, или что этот университет обязан больше Аристотелю, чем Аристотель университету, то я, несомненно, воздержался бы от такого рода предложений. Дабы не показалось, что я совершаю то, чего жажду, лишь ради Вашей милости или из раболепия, я совершаю [сей труд] с неким враждебным и безрассудным дерзновением и с меньшим, чем подобало бы, почтением.
Поскольку я нисколько не сомневаюсь, что мое усердие (каковым бы оно ни было само по себе) будет приятно Вашей мудрости и великоду- шию, и что Вы во всем поступите справедливо и правильно, я столь же твердо обещаю себе благосклонность как к Вам, так и ко всему коллегию, ведь это очевидно каждому. А если какая-либо (пусть даже новая) причина побуждает и вынуждает нас утверждать, что каждому в философии позволено философствовать свободно и выражать собственное мнение, и если истина, которую я (чей авторитет в этой области или способность кое-чего стоит повсюду в мире и у вас, по сложившемуся опыту) стремлюсь защищать, будет напрасно подвергаться нападкам, и все же в итоге, конечно, уже давно известная, будет утверждена еще больше, – то, конечно, я не совершу ничего, недостойного столь великой Академии. Но если же (на что я больше смею надеяться) благодаря этим начаткам возрождающейся философии откроется нечто такое, что потомство сможет и должно будет одобрить и принять, – то это, несомненно, будет наиболее достойно вашего славнейшего университета.
Будьте здоровы.
СТРАЖ, ИЛИ АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ИОАННА ГЕННЕКВИНА, произнесенная в царской аудитории Парижского университета в праздник Пятидесятницы 1586 года в защиту тезисов Ноланца
Привычка к вере, славнейшие, достопочтеннейшие и ученейшие господа доктора, – есть, по словам Аристотеля, главнейшая причина, которая препятствует человеческому разуму в восприятии тех вещей, которые сами по себе очевидны. Об этом он заявил в конце второй [книги] «О мудрости», где сказал: «Законы, в которых по причине обычая большее влияние имеют сказочные и детские вымыслы, чем то, что ясно познается чувствами, показывают, насколько велика сила при-вычки»2. Это подобно тому, добавляет его Комментатор Аверроэс, как те, кто привык питаться ядом, как считают, с одной стороны, обладают способностью укрепляться самим ядом словно собственно пищей, а с другой – для них самих оказывается губительным то, что для других является жизнеукрепляющим и целебным. Тем же, кому судьба даровала лучшие дары души и у кого душа вовсе не пребывает во сне, без чрезмерных трудностей и тяжелого труда смогут постичь свет, распространяющий себя во все стороны, если когда-нибудь, призванные к крепости суждения, за пределы круга общего чувства и идей, и поставленные между двумя противоречащими сторонами, справедливые судьи, освобожденные от тумана страстей, затем внимательнее выслушают доводы обеих сторон и усердно их исследуют, и на честных весах сопоставят все то, что чувствам кажется явным, общепринятым, признанным, установленным, предпочитаемым и привычным (когда это будет поставлено под вопрос на дискуссии), с тем, что противнику представляется наиболее абсурдным. Ибо таким образом случится, что наконец пред судом богов и людей они не покажутся верившими слепо, как низкая толпа, рабский и тупой скот, находящийся в глубокой пропасти тьмы и неведения, но, напротив, будто бы стоящими при самом ярком свете дня и в самой явной истине; подобными всем тем, кого также можно убедить в том, что божественная истина никогда не может быть таковой, чтобы бежать и страшиться чувства, истинного, природного, и человеческого суждения.
Я же, видя ясно, о слушатели, и душой видя, как далеко и широко распространяется тьма софистической философии, которая под именем и видимостью света столь бесчинно и самонадеянно торжествует против сияния истины, что ею со всех сторон, словно самим солнцем, истина, словно киммерийская тьма3, изгоняется, освистывается и, наконец, не признается даже достойной возражения и критики, – долго вынужден был медлить и воздерживаться от того, чтобы взяться за труд, на первый взгляд столь тяжелый, – за дело, находящееся в таком небрежении, не осмеливался, говорю, предпринять труд, направленный на то, чтобы, насколько хватит сил, низринуть с кафедры мудрости здание и авторитет, украшенный и столь усердно укрепленный Аристотелем и ему подобными, и извлечь истину, как бы омраченную и запятнанную мраком, из глубины тьмы. Но кто же сможет удерживать долго сокрытое в груди пламя зажженного света, чтобы оно не вырвалось наружу? Итак, несмотря на все это и на любые другие препятствия, пусть, если так будет угодно небесам, восторжествует наконец идеал истины, величие подлинного света, достоинство дела, удобство представившегося случая и надежда, основанная на том, что по необходимости, вследствие перемен вещей, должно быть так, что точно так же, как дневной свет и ночная тьма поочередно сменяют друг друга, так и в сфере представлений (intelligentiarum) сменяют друг друга истина и заблуждение. Это подтверждается и свидетельством наших оппонентов, поскольку то, что утверждал Платон в «Кратиле», подобно тому, что говорит Аристотель в первой книге «О небе и мире»4 и в первой книге «Метеорологики»: «Необходимо, – говорит он, – чтобы одни и те же мнения достигали нас не один раз, не дважды, но бесчисленное множество раз»5.
Пусть же ничто не препятствует тому, чтобы меня считали последователем, ревнителем и сторонником именно новых мнений; ведь если мои обвинители вглядятся внимательнее, они увидят, что нет ни одного древнего учения, которое когда-то не было новым, – так же как и то самое, на которое я ныне опираюсь, не настолько ново для нашего времени, хотя для тех, кто понимает меньше, может показаться презренным, потому что его не придерживались в древности, хотя самые сведущие в природе вещей считают его наиболее доказанным. Нет ни одного раба, который не происходил бы из древнего царского рода, и ни одного царя, который бы не имел предков среди прежних рабов, ибо так уж перемешивает дела человеческие долгая череда веков и превратности судьбы. Разве не подобным образом следует судить и о мнениях, как темных, так и прославленных? Поэтому для меня, сколь бы мрачным и трудным не казался внешний облик корня исследования, все же несомненно окажется, что растение это представляет собой образец благороднейшего древа, и что порядок его славнейших плодов лишь скрыт от взгляда; и где изначально присутствовал труд, там окажется плод тем славнее, чем он превосходнее, ибо мы с тем большим усердием взбираемся по ступеням истины, истертым ногами лишь немногих, чем труд наш уединеннее. Так пусть же тем желаннее восстанет то, что прежде было подавлено и окружено тяжелыми и глубочайшими тенями. Если же это так, то почему нам должно ставиться в вину, что мы, ведомые более возвышенным светом, отступаем от школы Аристотеля и уходим словно от толпы обыденной философии в некое подобие уединения, если самому Аристотелю когда-то было позволено отступить, уклониться и отпасть от истины и от тех великих родителей и превосходней- ших наставников мудрости? Если же несправедливое время умостило себе путь силой обманчивого чувства и мнения, искусством изощренных софизмов, а также слабостью лукавой веры к тому, чтобы навязать столь многие и столь великие заблуждения и воздвигнуть здание более обширное, чем прочное, словно некую твердыню, то почему бы мне не считать, что, руководствуясь более здравым и упорядоченным восприятием, живыми и действенными доказательствами и голосами природы, раскрывающими ее самое, своими способностями я возвещаю, раскрываю сияние истинного света и указываю на него, чтобы стало очевидно, насколько то, что мы предлагаем и сообщаем, является испытанным, истинным, прочным и устойчивым, и насколько чуждо, непостоянно и слабо, а потому обречено рухнуть под собственным весом то, что мы отвергаем и презираем. Ибо если в природе вещей ничто не может быть более подобающим, а все другое, напротив, столь же несоответствующим, то, как бы ни был скрыт драгоценнейший клад под оболочкой Си-лена6, все же тот божественный образчик истины, который привычка верить во все без разбора, глядя на многоизогнутую и искривленную поверхность зеркала, видит искаженным под видимым обликом невозможных утверждений, в тот момент, когда устраняются ложные преграды, выступает ясным на свет.
Тем временем я предпочитаю иметь пред взором богов (с которыми, как я полагаю, имею общение) славу без царства, нежели царство без славы пред лицом глупейшей толпы. Ведь я могу с уверенностью обещать себе и то, что истинное мнение сохранится и пустит глубокие корни в умах мудрейших, ложное же и софистическое, хотя бы и торжествовало некоторое время (каким бы долгим оно ни казалось), будучи слабейшим, легко будет поднято и развеяно малейшим ветром. Ведь мы не верим, что на бесплодной равнине может взойти то, что основано лишь на одном мнении, не имеющем под собой опоры истины. Итак, пусть истина восстанет позже – она все же окажется сильнее, и, хотя общее мнение часто старается ее вырвать с корнем, чем глубже оно ее закапывает своими обвинениями, тем мощнее, наконец, вопреки даже злонамеренным гениям и противящимся человеконенавистническим духам, она прорвется к свету.
Итак, пусть кто угодно говорит, что наши утверждения похожи на те, которые мы находим у Лукиана в книге «О правдивых рассказах»7; пусть говорят, что они плывут против стремительнейшего потока авторитета величайших и самых признанных философов; пусть упрекают нас в том, что тех, кто с нами согласен, слишком мало – ведь окажется, что этим аргументом они не добились ничего, потому что исходя из этого либо мы со своими немногими соратниками безумствуем, либо они со своими многочисленными – благоразумны.
Конечно, нет никакой пользы в том, что мы кажемся здоровыми по мнению толпы, если на деле больны; и нет никакого вреда в том, что по ее же мнению мы считаемся больными, если в действительности здоровы. Тем больше, впрочем, мы укрепляемся в нашем намерении, чем больше значит здоровье или болезнь души, нежели здоровье тела: ведь чем больше первое превосходит второе, тем достойнее его искать и тем славнее – обрести, даже если за этим не последует всеобщее одобрение, ибо чаще всего именно слабые и глупые считают себя здоровыми и мудрыми.
И чтобы начать речь как бы с другого конца: допустим, что я, подобно другим (будь их немного или весьма много), заблуждаюсь и ошибаюсь; но все же я не поверю, что действительно обманут и удерживаем во мраке заблуждения. Что же, спрашиваю, будет доказательством того, если, с одной стороны, я вижу одного Ноланца – близкого, современного, нового, не слишком одобряемого большинством, напротив, весьма им ненавидимого, поскольку он почти ни в чем с ним не согласен, которому, однако, кажется, дает некоторое ручательство небольшой перечень тех, давно изглаженных из человеческой памяти – если мы обратимся к более истинной мудрости или к суждению и авторитету таких мужей, как халдеи, пифагорейцы и некоторых других божественных, чьи мысли потомки опустили и низвели до метафор; а с другой стороны – вижу всех праотцов человеческой мудрости с их столь многочисленной свитой, на протяжении стольких веков и во стольких странах столь блистательно властвовавших над музами с кафедр всего мира, – разве я не вправе склоняться с немногими к этой, презираемой большинством, партии, или, по крайней мере (сообразно с мерой суждения), склоняться к ней не меньше, чем к другой? Воздержитесь, прошу вас, от этого мнения, которое, будучи принято как некий принцип и основание, кажется, должно следовать и выводиться как непременное, и позвольте мне пока удерживать свое суждение в качестве неопределенного, пока я не буду убежден более надежными доводами и аргументами школ других, признанных философов, чтобы затем, быть может, в силу больших доказательств склониться к тому мнению, которое вы предпочитаете. Я твердо надеюсь, что вы великодушно простите мне эту задержку, ибо полагаю, что вы, безусловно, знаете то, что и мне стало очевидно: а именно, что более многочисленное сообщество никогда не бывает столь безопасным и всегда надежным, что не может быть порой легко опровергнуто и рассеяно даже одним человеком, особенно когда среди этого сообщества множество споров, неясностей, распрей, бесчисленных разногласий, и когда в нем нет ничего упорядоченного, ясного, установленного, и кроме единства именования, профессии и основного принципа, нет ничего объединяющего. Что, скажите, может быть более явным признаком заблуждения и слепоты там, где, если только люди не наняты за плату или не удерживаются страхом других потерь, все во всем противоречат всем, каждый остается одинок в своем мнении, никто никому не дает полного одобрения, и потому всех во всех суждениях, кроме собственного, считают глупцами? Что же сказать, если в отношении другой партии оказывается доказанным противоположное – что среди множества согласных, сторонников или, если хотите, последователей школы, не происходит ничего подобного? Ведь без сомнения, признак низости ума – думать так, как большинство, только потому, что это большинство. И коль скоро истина не колеблется в зависимости от мнений черни и подтверждения со стороны большинства, то никто и не должен считать себя ученым лишь потому, что его таковым считают. Поэтому ошибается тот, кто по своей воле верит в то, во что не вынужден верить легкомысленно, к чему нельзя без основания присоединяться или под чем подписываться, чего не поддерживает свет нашего знания, нашей совести. Я действительно считаю, что счастливее знать истину вопреки мнению, чем обладать мнением вопреки истине, особенно поскольку слишком часто опыт нам показывает, что (и сама толпа тому свидетель) ничто не склоняет к ошибке более, чем мнение этой самой толпы. Однако я полагаю, что не тогда, когда следует определять, что есть истина, а лишь когда нужно издавать законы, санкционировать религиозные обряды и установления, касающиеся общественной жизни, – тогда голос народа, если он един, следует считать голосом Божиим.
Следовательно, там, где дозволено свободно мыслить и предоставлена возможность обозревать все широко и во всей полноте, чтобы не казалось, что мы напрасно одарены зрением, чувствами и разумом, не будем закрывать их по прихоти глупцов, обманщиков и невежественных людей, и не сделаемся неблагодарными благому Богу и природе, вырвав себе глаза и отбросив чувства, будто бы эти дары не могут существовать вместе с другими дарами тех же божеств, и будто истина может противиться истине, а подлинный свет противостоять истинному свету. Так не будем же в страхе бежать той различающей и созерцающей силы, которая составляет саму субстанцию и сущность нашей природы, то есть бежать нас самих. Напротив, вспомнив о божественности, пребывающей в нас, и о свете, живущем в твердыне нашего духа, обратим взор размышления туда, куда, если мы, как подобает, внимательнее всмотримся, то увидим, что приблизились к тому знанию, которое ничто не может превзойти по красоте, по достоинству, по близости к истине и по согласии с самой природой, взывающей к нам, и которое мы обретаем прочнее всего пред лицом ложных софизмов и легковерных мечтаний грезящих прорицателей.
Тогда можно будет увидеть, как дух, обладающий могуществом развернуться в беспредельное, восходит туда, где некогда был заключен в теснейшем заточении, откуда прежде, сквозь щели и более плотные отверстия, направлял он притупленный взор своих очей к самым отдаленным областям звезд. Его крылья, по обычаю, были словно рассечены тупым ножом легковерия, и потому не могли пробиться выше покрова густых облаков для созерцания необъятной Вселенной. Он же трудами собственной фантазии вообразил себе, будто между нами и славой завидующих богов простирается некая преграда, более твердая, чем медь и алмаз. Но теперь, освободившись от ужаса бесконечной смертности, от гнева судьбы, от свинцовых суждений, от сомнительного спасения, от пристрастной любви, от вечных эриний8 и от ужаса пред алмазными вратами и цепями, которых вовсе не существует, он выходит на воздух и вступает в пространство, вмещающее столь многие и столь великие миры, ибо оно бесконечно. Когда все это покинуло его, став яснее, он проникает сквозь небо, проходит мимо звезд, перелетает за воображаемые границы мира, и исчезают стены восьмой, девятой, десятой и других сфер, которые слепота философов и тщеславие математиков воздвигли в своем воображении. Здесь, перед лицом всего чувства и разума, ключами тщательнейшего исследования отпираются врата истины: слепые прозревают, немым развязываются языки, хромые – в смысле духовного и умственного прогресса – укрепляются и восстают. И здесь разум, поднимаясь все выше и выше и воздвигая самого себя, делает их не менее близкими к звездам, чем звезды к ним самим, – так, будто они обходят жилища и местоположения Солнца, Луны и прочих светил: ибо теперь ясно видно, как могут существовать миры, подобные тому, который мы населяем, и насколько они могут быть как непохожи, так и похожи на наш – меньшие и худшие или, наоборот, большие и лучшие. Отсюда мы восходим к более возвышенному созерцанию этого божества и матери, в чьем лоне мы рождаемся, питаемся и куда вновь возвращаемся, чтобы впредь не считать его телом без души или, как ложно измышляют, грязным скопищем (sentina) телесных субстанций. Конечно, станет очевидно, что если бы мы обитали на сфере Луны или других звезд, то жили бы в месте либо подобном нашему, либо, быть может, даже худшем; ибо и в пределах кружения видимого мира существуют столь же хорошие вещи, а может быть, и лучшие – так же, как мы можем различать среди существ, находящихся среди нас, как разные виды, так и разные степени совершенства. Так мы понимаем, что столь многие звезды и светила суть множество божеств – десятки и сотни тысяч и еще более, стоящих пред созерцанием первого, всеобщего, бесконечного и вечного производящего. Разум отныне свободен от оков вымышленных подвижных сфер и не порабощен божествами восьмого, девятого или десятого двигателей9. Мы познаем одно небо – эфирную, безмерную область, в которой, как это великолепное светило, которое мы именуем Землей, так и другие бесчисленные звезды, каждая, пребывая на своем собственном расстоянии от других, удерживаются в вечной жизни и свете своими равновесными тяжестями. Это те самые пылающие тела, которые возвещают славу величия Божьего и дела Его рук. Отсюда мы возводимся к раскрытию бесконечного следствия бесконечной причины и к созерцанию божественности – не как чего-то внешнего, отделенного и далекого от нас, а как пребывающего в нас самих
(ибо она присутствует всюду в своей полноте), ведь она ближе к нам самим, чем мы сами к себе: если только она истинно есть творящее субстанцию всего и всех сущностей, самое сущностное и сам центр. Поэтому поиск божественного в нашем мире ведется не меньше обитателями других миров, чем нами в их мирах. Ведь мы для звезд и неба ничуть не меньше, чем для Луны или любого другого светила, или чем могут быть для нас все остальные звезды. Поэтому, наконец, один из нас, пусть даже совсем один, восклицающий, поющий и обладающий мудростью лишь для себя и для муз, – восторжествует над мириадами общего невежества. Между тем различающее суждение следует основывать не на публичной брани, не на пустых авторитетах сновидцев, не на свидетельствах ослепленных светом, но на силе упорядоченного чувства и на взоре просветленного ума. Ведь если в делах света и цвета следует доверяться суждению одного того, кто действительно видит, хотя бы все, кто были, есть и будут, слепы, и пускай возмущается невежество, но число всех глупцов никогда не уравновесит цену и значимость одного знающего. Итак, раз все обстоит именно так (а про многое другое я умолчу), будем сомневаться, говорю, пока будем сомневаться, до тех пор, пока нам не будет позволено рассуждать о деле более свободно. И пусть не препятствуют ученики Аристотеля, которых мы, поскольку не считаем более прозорливыми, чем сам их Учитель, тем более считаем ошибающимися, когда они отворачиваются от этих наших взглядов. Ведь меньше способны видеть своим собственным умом те, кто, например, презирает само слово «пустота», – то самое, которое Аристотель тщился опровергнуть множеством доводов. Они отвергают бесконечную величину и такую же протяженность Вселенной как явную ошибку, тогда как Аристотель, напротив, вооружается всеми силами, будто бы защищаясь от превосходного учения. Неподвижность Земли, в которой, по мнению наиглупейших из всех, только глупцы могут сомневаться, Аристотель счел достойной защиты множеством аргументов, соразмерных весу доводов противной стороны, ведь именно к этому вопросу относится то, к чему он настойчиво стремится прийти в середине второй и во всей четвертой книге трактата «О небе и мире»10. Мы же, кроме того, полагаем, что теория, презираемая в этих нападках Аристотеля, и крайне тягостная для предводителя этих людей, в конце концов покажется наилучшей для всех, кто сумеет рассмотреть ее как следует. И если из этого выходит, что я противостою всем перипатетикам, то, как про тивников моей теории, я должен их опасаться; но более всего я буду страшиться тех из них, кто, движимый скорее верой и славой этого учения, чем его пониманием, изливает тем больше речей, чем меньше имеет доводов. Как бы то ни было, я не отступлю от своего начинания, ибо дошел до этого места не для того, чтобы сделать это учение красивее, а чтобы стало ясно, на основании каких доводов я могу подвергнуться критике: я не намерен резко отвергать противоположную сторону, но буду исследовать доводы, которые вынуждают приходить к иным умозаключениям. Хотя я совершенно точно знаю, что большинство из той партии, которая публично вступает в диспут, скорее стремятся стяжать славу и добыть победу, чем усердно отыскивать истину, тем не менее, если ошибка обнаружится с одной или с обеих сторон, или же ни с какой бы то ни было стороны, то во всяком случае можно будет надеяться, что наше усердное исследование не будет напрасным. Ибо в ходе диспута часто случается так, что те, кто в начале надменно заблуждался, в конце концов, столкнувшись с обнаруживающейся истиной, которая побуждает душу, постепенно отступают от ложных представлений. Когда же мы не пожинаем немедленно жатву озарения пониманием, но предполагаем, что посеянные семена со временем созреют, то и это, конечно, происходит не вне порядка природы, которая дарует все не сразу, а с установленным течением времени. Следовательно, все же умоляю и заклинаю вас, чтобы мы (поскольку величайшее препятствие к познанию, более того – сама невежественность, состоит в том, чтобы думать, будто уже знаешь, из-за чего софист перестает искать дальше, отворачивая слух и ум от противоположного мнения) согласились хотя бы в одном начале – а именно, чтобы мы признали, предположили, вообразили, что мы по крайней мере временно чего-то не знаем. Тогда, быть может, нечто прибавится к нашему разуму и свету, когда, узрев истину – будь то через тьму заблуждений или противников, или других людей, или друзей, или наших собственных, или хотя бы сквозь неуверенный проблеск света, – мы либо еще более утвердимся в истине, либо, осознав свою слепоту, преобразимся, стряхнув тьму, скрывавшуюся под видом света. Поэтому, пока не станет ясно, на что каждый в действительности способен, – постановим все вместе, как общие судьи, вынести более искреннее суждение: будем считать, что из противоположных утверждений каждое может быть возможным. Посему молю вас, наиболее одаренных Профессоров наук, перед лицом величия истины вести дело так, чтобы быть не столько несправедливыми и суровыми обвинителями, сколько справедливыми и праведными судьями, и чтобы вы стремились не столько пылкостью речей, сколько силой и основательностью доводов либо утвердить свое мнение, либо опровергнуть чужое.
Dixi11.
ПИФАГОРЕЙСКИЕ И ПЛАТОНИЧЕСКИЕ утверждения, не принимаемые перипатетиками, которые мы доказываем и защищаем.
О ПРИРОДЕ
-
1.12 Природа – вечная и неделимая сущность;
-
2. Орудие божественного провидения
-
113. Вселенная (чтобы ты не пожелал назвать ее двойственной – телесной и бестелесной, и каждую из них бесконечной) есть единое бесконечное, состоящее из бестелесной и телесной, чувственной и нечувственной, субстанций; 2. Бытие всеобъемлющее и совершеннейшее из всех; 3. Ее интеллигибельная сущность целиком присутствует всегда и повсюду; 4. Более того, она сама есть само вездесущее; 5. Не допускает никакого разделения; 6. Чуждая движению и, следовательно, поставленная выше самого провидения; 7. Поскольку она телесна, о ней нельзя доста-
- точно подобающе сказать ни что она движется, ни что она пребывает в покое – вернее же будет сказать: она неподвижна, и вместе с тем остается той же самой и движется; 8. Так как она бесконечна, то не есть некое целое, и ничто не может быть ее частью; 9. Существует вне всякого интеллекта и всякого бытия, случайности и вне рассудочного основания (rationem); 10. В ней можно созерцать три начала: Закон, Справедливость и Суд. Закон – в божественном уме (in mente), который есть само расположение всех вещей; Суд – в уме мировой души (animae mundi), определяющем каждое в отдельности в соответствии с нормой божественного закона; Справедливость – в действии и воле-нии, исполняющем каждое отельное в соответствии с постановлением мировой души.
-
114. Этот чувственно воспринимаемый мир, коль скоро он конечен, вовсе не является частью по отношению к всеобщему, единому, сущему и бесконечному; 2. Поэтому Ксенофаном и Парменидом он справедливо назван не-сущим; 3. У Платона он помещен в область злого, однако он не зол, и не (как полагают гностики) дурно устроен, – просто он не в силах изгнать из себя противоположности (contrarietatem). 4. Напротив, мир есть живое существо, зависящее от ума, совершеннейшее, имеющее собственную душу – так же, как и мы; 5. Есть некий Бог, созданный по образцу умопостигаемого мира; 6. Не отделен от своего производящего, но и не смешан с ним; 7. Всецело завися от Бога в своем бытии, он всегда возникает одновременно весь и всегда одновременно весь оказывается сотворенным (factus)15; 8. Поэтому, считаешь ли ты, что он является лишь временным, или созерцаешь его как вечный очами ума, он постигается как произведенный из ничего первым умом; 9. Его материальные начала – это Земля, или Атомы, или Суша, Бездна, или Стикс, или Океан, Дух, или воздух, или небо, или твердь; 10. Его первые акциденции (если, впрочем, они могут быть названы акциденциями) – это тьма и свет, из которых затем возникают огонь и мрак в целом, то есть то, что для нас является вторичными элементами.
(providentiae); 3. Действующая посредством прирожденной ей мудрости; 4. Которая, хотя и направляет все к определенной цели, однако не ведома никаким воображением или размышлением; 5. Продвигаясь от менее совершенному к более совершенному, она, производя мир, в некотором смысле производит саму себя; 6. Неутомима; 7. Ничего из того, что имеет, не получила случайно; 8. С помощью определенных семенных оснований повсюду с необходимостью развертывает определенные формы; 9. Посредством этих семенных оснований, словно посредством начал и правил, все движения, которые сами по себе неопределенны, определяет неким постоянным движением и, будучи уравновешена некоей умеренностью, приводит многообразное к созиданию единообразным порядком; 10. Она есть живое искусство и некая разумная сила души, которая беспрестанно формует материю не чуждую, а собственную, не извне, а изнутри, не по некоему произволу, а по самой своей сущности. Ибо она действует не так, как ваятель, работающий внешним образом, с рассуждением и при помощи орудий, но точно так же, как геометр, который, будучи охвачен сильным внутренним стремлением, воображая фигуры, движет и формирует внутренний дух своим воображением.
О ВСЕЛЕННОЙ
О МИРЕ
ТЕЗИСЫ О ПРИРОДЕ И МИРЕ, предложенные Ноланцем в главнейших академиях Европы, которые Иоанн Геннеквин, парижский дворянин, обнародовал под благосклонным покровительством автора для защиты против профессоров вульгарной и прочей философии оппонентов в течение трех дней Пятидесятницы в Па- рижском университете с кратким приложением их оснований.
Не намереваясь сказать ничего, что могло бы поколебать всеобщую веру и религию, и не собираясь когда-либо утверждать что-либо определенное, равно как и не стремясь установить или отдать предпочтение какому-либо определенному направлению философии вместо истины, как она является в соответствии с человеческим разумением, но либо ради упражнения, достойного наиболее выдающихся профессоров философии, либо для того, чтобы яснее проявилась прочность или, напротив, слабость столь распространенного на устах у большинства и знаменитого учения перипатетиков, Джордано Бруно Ноланец предложил следующие тезисы для обсуждения во всех академиях Европы, я же, Иоанн Генне-квин Парижанин, под его покровительством изложил их для публичной защиты в родительнице всех наук – университете Лютеции16. Он пожелал расположить эти тезисы таким образом, чтобы их последовательность всюду соответствовала той последовательности, которую мы видим у Аристотеля в книгах, главах и положениях о науке природы и описательных сочинений (historiae) о природе.
ТЕЗИСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРВОЙ КНИГИ ЛЕКЦИЙ О ФИЗИКЕ17
ТЕЗИС I. О ПРЕДМЕТЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ НАУКИ
Большинство перипатетиков совершенно не понимает, что для Аристотеля природные, телесные и движимые сущности не являются предметом науки, и не внемлют самому Аристотелю, повсюду возглашающему природу.
ОСНОВАНИЕ ПЕРВОГО ТЕЗИСА
Здесь мы указываем пока не на ошибки Аристотеля, а на невежество почти всех его последователей относительно их собственных принципов. Здесь следует вспомнить, что, когда философы ставят вопрос о том, возможно ли какое-либо познание, и одни частично, другие же всецело утверждают или отрицают такую возможность, всегда имеется в виду подлинное основание науки, которое, как оно определено у Аристотеля в первой книге «Второй аналитики», таково, что тем, кто исследует предмет естественной науки или естественного созерцания, бесспорно не следует навязывать в качестве такового тело, чувственное, движимое, природное, если предмет науки должен быть вечным, неизменным, истинным, посто- янным, простым, единым, всегда и всюду самим собой18. Ибо не сама Вселенная рассматривается как единое и как абсолютная субстанция, имеющая единую природу, но именно сама универсальная природа, или субстанция, предлагается научному (если речь об этом) созерцанию. Я говорю о том, что для Аристотеля является принципом всякого движения, о том, что есть субстанция того, что в себе содержит начала движения; не об этом небе, не об этих звездах, во всяком случае, ни о чем-либо таком, что воспринимается чувственно или предположительно, но лишь о том, что способно быть познаваемым. Поэтому предмет науки и доказательного умозаключения всегда берется специфически и в единственном числе (singulariter), и никогда – во множественном или нумерически (numeraliter), ибо говорят, что [наука возможна] о Солнце в соответствии с [его] видом, или, конечно, о природе Солнца, о природе живого существа и о природе души, а о солнцах, о душе, о небе возможны всегда только описательные сочинения (historia), но не наука. Почему же, вопреки тому, что всегда говорит Аристотель и все философы, предметом познания объявляют движимое сущее, природное сущее, движимое тело, природное тело и тому подобное? Почему же, когда ставится вопрос, существует ли знание о природных вещах, все единодушно склоняются к утвердительному ответу, а затем, когда повсюду оглашаются Аристотелевы учения против них, они, по обычаю софистов, прибегают к тому, чтобы скорее разрумянивать и разукрашивать оправданиями и возвышенными, но непонятными словами те утверждения, которые нужно отрицать как ложные и опровергнутые, и столь сильно стараются замаскировать то, чего не в состоянии оправдать, что порочность их упрямого невежества не способны увидеть лишь те, кто вовсе ничего не видит? Ибо что иное, ради бессмертного Бога, значит говорить, что движимое сущее в соответствии с формальным, универсальным, общим основанием, коль скоро это касается его сущности и простой чтойности (quidditatem)19, является предметом науки не в качестве составного, пребывающего, частного, материального по основанию, как утверждать, что не движимое бытие, а природа движимого бытия есть то, что может быть предметом познавательного основания? Что иное, спрашиваю я, есть эта форма речи, как не признак крайне нерешительного ума, разрушающего и отрицающего самое себя? Что такое сказать, что о людях возможна наука в соответствии с их специфическим и универсальным основанием, как не то, что наука существует не о людях как таковых, а о природе человека? Разве эти изменения не делают из многих – одно, из множественного – единичное, из природных – природное, из природного – природу? Подумайте, учил ли Аристотель когда-либо говорить, что существует наука о Сократе, о Каллии20, о Платоне, то есть, что существует такой человек, о котором может быть наука в соответствии с его специфическим основанием21, а не с субстанцией, сущностью, природой? Или же это скорее слова некоторых скотистов и подобных им капюшонников22? Между тем правильнее говорят перипатетики: ни о Сократе, ни о Платоне, ни о Юпитере, ни о человеке, ни о богах не возможно ничего, кроме описательных сочинений; но о природе человека и о природе богов (если каким-то образом она для нас возможна) говорят, что существует наука в качестве науки об универсалиях. Давайте рассмотрим, понимают ли они науку по обычаю перипатетиков в смысле общем, частном и наичастней-шем, или же так, как это делают софисты-трюкачи. Так ведь и те говорят о «науке» актерских сандалий, швов и крайней плоти; грамматики – о «науке» правильного употребления дифтонгов, ударений и знаков препинания; трактирщики – о «науке» правильного приготовления пищи и «софистической» подачи питья. Конюхи не меньше могут сказать, что животное, которое возвращается прямо домой, владеет «наукой». Исследуйте, говорят ли они в согласии с обычаем главных философов, что единичное и подвижное не является предметом науки в первую очередь, непосредственно, но лишь опосредованно и во вторую очередь. Ведь если бы они следовали по следам самого Аристотеля, то должны бы были заметить, что чувственное, движимое, частное не может быть предметом науки – ни в первую, ни во вторую очередь, ни опосредованно, ни непосредственно, ни само по себе, ни акцидентально, – как ведь и то, что само по себе чувственно, не может быть также акцидентально интеллигибельным; а то, что по своей природе частно и движимо, не может быть также акцидентально универсальным и неподвижным. Поэтому Аристотель никогда не употреблял термин «наука» применительно к единичным вещам и не учил так его использовать, о чем он говорит в первой книге «Второй анали-тики»23. Кто познал, что всякий треугольник имеет три угла, и понял, что данная фигура в полукруге – треугольник, тот в тот же момент, используя вывод, понял, что [и он имеет три угла]24. И нигде он [Аристотель] не учит пользоваться физическими терминами: ведь, когда он стремится о чем-либо доказательно рассуждать – будь то о природных вещах или о божественных, – он всюду воздерживается от физических терминов и прибегает к математическим, чтобы тем самым показать, что занимается созерцательным рассмотрением не самих предметов (subjectis), а природы предметов25. Следовательно, те, кто утверждает, что существует наука о движимом, о теле, о природном – или, более того, о движимых и природных [вещах], – они говорят, что она существует «в каком-то смысле» и «в какой-то мере», как если бы они говорили косвенно, извиняющимся образом, уклончиво, обратным образом, опосредованно и, как говорят в обиходе, неправильно, непрямо, вторично и акциден-тально. А такие вот люди вовсе не философы, и даже не перипатетики, разве что «в некотором смысле» своей косвенности, подражательности, непрямого движения, вторичности, акциденталь-ности и неподлинности; в собственном смысле же они – лишь трюкачи, мельтешащие, поверхностные и мелкие кинжальчики (pugiunculi).
ТО ЖЕ САМОЕ СЛЕДУЕТ И ИЗ ПРИРОДЫ ПРЕДМЕТА
Для лучшего прояснения этого (так как именно относительно таких вопросов они обычно любят как можно больше накручивать бахромы), я, конечно, решил предложить добавить к предмету науки еще несколько условий, чтобы заставить вышеобозначенных людей услышать голос Аристотеля вместе с нами. Ибо если, во-первых, предметом науки должно быть сущее, поскольку не-сущее непознаваемо, ясно, что большая и лучшая часть философов не считает и не называет природное (поскольку оно движимо и непостоянно) истинным сущим и вообще существующим. А то, что постоянно существует и пребывает, и называется «существующим» и «пребывающим» – это природа. Если, во-вторых, предмет должен быть познаваемым, поскольку бессмысленно стремиться к познанию того, что невозможно познать, ясно, что наиболее познаваемым (даже если оно и не познается [актуально]) является наиболее истинное и постоянное сущее. Таковое не есть ни что природное, но сама природа.
Если, в-третьих, предметом науки должно быть интеллигибельное, поскольку чувственное, воображаемое и предполагаемое дают лишь ощущения, мнения и вымыслы, то интеллигибельное, разумеется, не является чем-то природным. Наоборот, ясно, что интеллигибельное природное есть не что иное, как сама природа, и именно она, в конце концов, есть то интеллигибельное, которое выделяется из природного.
Если, в-четвертых, предметом науки должно быть универсальное, поскольку наука невозможна о частных вещах, то, конечно, то, что присутствует во всем, подтверждается во всем и что может быть истинно сказано обо всем, – есть не что иное, как природа. Поэтому природа повсюду является предметом исследования: либо через универсальное, что ведет к ее познанию, поскольку она может быть предметом науки там, где она повсюду проявляет себя в совершенном порядке; либо через частное, что относится к описательным сочинениям такого рода – как, например, в сочинениях по метеорологии, в сочинениях о животных, о растениях и тому подобном; а также там, где неупорядоченность отчасти составляет трудность, которая смущает ум познающего. Поэтому Аристотель, скромно отзываясь о своем исследовании о душе, причисляет его к описательным сочинениям о природе.
Если, в-пятых, требуется, чтобы сам [предмет науки] стал известен во всех частях искусства исследования, или, по крайней мере, чтобы он подвергся исследованию, то очевидно, что он подтверждается и познается в своем конечном виде как в целом умозрении, так и во всех его частях, какими бы они ни были и какой бы природы ни оказались. Говорю – в конечном виде и объективно, потому что в любом искусстве мы постигаем два рода оснований (subjectionem). Ибо есть то, что соответствует той материи, а именно то, что подлежит (subjicitur) действию [мастера], за пределы чего действие мастера не распространяется, как, например, камень, дерево или медь, или то, что является общим для всех этих материалов в искусстве ваяния: то, что подчинено как всем, так и каждому отдельному действию. Есть также то, что в конечном виде соответствует искусству, а именно то, что подлежит действию словно его цель, за пределы которого оно не распространяется: например, в искусстве ваяния это статуя, к которой направлены все дело, и все его акты, и каждый отдельный его акт. Здесь один предмет намерения26 не является единым в материальном смысле, а, напротив, множественен сообразно множеству своих частей. Разве только кто-либо под «природным» (naturale) будет понимать не то, что обозначает составное из природы как материи и природы как формы, или саму природу как нечто существующее, но то, что обозначает область науки или научного описания (historiae), которая, в свою очередь делится на божественное, математическое, магическое, логическое, моральное и природное. Ибо предмет [науки] прямо и явно относится ко всей физике и к каждой ее части: ведь тот предмет, который есть в конечном смысле и предмет намерения науки, обыкновенно называется объектом (objectum) и тем, что, как говорят, «созерцается объективно» – конечно, и есть сама природа, как ясно показывает сам Аристотель, который, приводя повсюду основания для своих трактовок, говорит: «Поскольку наука – это наука о природе, а рассмотрение того, что косвенно связано с природой (circa naturam) приводит, по-видимому, к описанию (historiam) природы – наш метод посвящен [самой] природе»27.
Если, в-шестых, имеет смысл показать претерпевания (passiones)28 [предмета науки] – то есть то, что окружает его, что его сопровождает, что предшествует ему и что следует за ним, а именно причины и начала, из которых он состоит или познается, то станет очевидно, что все это относится к самой природе, различные основания, виды, роды, обстоятельства, признаки и следствия29 которой повсюду стремятся раскрыть [в ходе исследования].
Если, в-седьмых, подобает, чтобы ничто другое не могло быть более собственным образом обозначено как предмет науки, то что же может быть более универсальным, чем то вечное, неподвижное, всегда тождественное, более интеллигибельное и отделенное от чувственного, что предполагается в начале в материальном, в ходе [исследования] ищется, а в конце может созерцаться, кроме самой природы? На что иное, [как не на природу], обращены описательные сочинения и трактаты о природных вещах?
Если, в-восьмых, перипатетикам нужно определять предмет намерения [научного исследования] по авторитету их учителя, если они должны постигать цель искусства из слов автора-философа, который хотел сделать свое намерение максимально доступным, то пусть они услышат его в начале первой лекции о физике30, где, излагая, что должно быть рассмотрено относительно принципов его философии, он говорит о принципах науки о природе. То же самое он повторяет и в начале третьей книги. Там, где он начинает трактовать бесконечное, он говорит: «Поскольку наука – это наука о природе и занимается величинами, движением, временем и прочим, постольку наука рассмотрения всего этого занимается самой [природой]»31. В начале восьмой книги, указывая на необходимость рассуждения о первом движении и о первом двигателе, он говорит: «Это рассмотрение является рассмотрением природы»32. Пусть они послушают его в начале первой книги «О небе»33 и заметят, предлагает ли он там что-либо иное, нежели то, что он изложил в первой, третьей и восьмой книгах «Физики». Там же он говорит: «Наука о природе в наибольшей степени занимается телами, величинами, претерпеваниями (passiones) и движениями, а также началами такой субстанции; все это рассматривается ради природы, которая в них обнаруживается и рас-крывается»34. Там, где он указывает, что не намерен изучать науку о телах как таковых, и в особен- ности исследовать то, что имеет природу такого рода, но исследовать всесторонне и повсюду и как таковую – природу, и поэтому рассматривать тела и подобное этого рода, как того требует наука о природе: в наименьшей степени привязывать ум к движимым [телам], но к тому, что в них является субстанцией и неподвижным началом (principium) движения. То же самое он повторяет в начале 3-й книги «О небе», говоря: «В том, что рассматривается в этой философии, многое относится к описанию природы, больше, чем к науке, потому что большинство размышлений касается составных тел, и поэтому мы исследуем науку о природе скорее через описание, чем через совершенное уни-версальное»35. Пусть, наконец, послушают его в начале «Метеорологики» (Metheororum), где он подводит итог, и обратят внимание, что он отмечает, что во всех предшествующих трактатах он исследовал не движимое, не природное, не составное и не нечто такого рода, но именно природу и движение. Слова его таковы: «Итак, о первых причинах природы и о всяком природном движении, а также о звездах и элементах [следует рассуждать] в соответствии с тем, как они расположены в отношении высшего движения (то есть в соответствии с чем они имеют начало движения, то есть природу в себе самих), таким же образом – и о возникновении и разрушении, начало которых есть при-рода»36. Пусть послушают его же там же, продолжающего последующее рассуждение в связи с вышесказанным и указывающего, что он приступает к изложению описания [тех явлений], которые происходят согласно природе, хотя и в менее упорядоченном виде37. То же самое становится ясным из рассмотрения предисловия к книге «О душе», которую он называет описательным сочинением. То же самое он ясно показывает бесчисленном множестве других мест, которые вы сможете увидеть и рассмотреть в таком свете, – в них он неизменно принимает природу как то, о чем существует наука, рассмотрение, созерцание, описание; а небо, стихии, все движимые вещи, все тела вообще – как то, к чему рассмотрение природы относится косвенным образом и из рассмотрения чего проявляется интеллигибельный образ природы. Но разве он где-либо и когда-либо говорил о методе, рас- смотрении, науке или описании природных [предметов], природного, движимого сущего, движимого тела или других вещей такого рода?