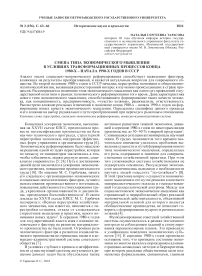Смена типа экономического мышления в условиях трансформационных процессов конца 1980-х - начала 1990-х годов в СССР
Автор: Тарасова Наталья Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 3 (156), 2016 года.
Бесплатный доступ
Анализ опыта социально-экономического реформирования способствует выявлению факторов, влияющих на результаты преобразований, и является актуальным вопросом для современного общества. Во второй половине 1980-х годов в СССР началась перестройка экономики и общественнополитической жизни, вызвавшая разносторонний интерес к изучению происходивших в стране процессов. Рассматривается изменение типа экономического мышления как одного из проявлений государственной политики в рамках экономического реформирования того время. Дана характеристика нового типа экономического мышления, способствовавшего формированию таких качеств человека, как инициативность, предприимчивость, «чувство хозяина», рационализм, ответственность. Рассмотрено влияние реальных изменений в экономике конца 1980-х - начала 1990-х годов на формирование новых качеств экономического мышления. Определены специфика данного процесса и его влияние на выбор радикального пути преобразований при переходе к рыночным отношениям.
Перестройка, социально-экономическое реформирование, командно-административная система
Короткий адрес: https://sciup.org/14751049
IDR: 14751049 | УДК: 94(47)084.9
Текст научной статьи Смена типа экономического мышления в условиях трансформационных процессов конца 1980-х - начала 1990-х годов в СССР
Концепция ускорения экономики, высказанная на XXVII съезде КПСС, предполагала провести интенсификацию производства на базе научно-технического прогресса, структурной перестройки экономики, внедрения эффективных форм управления и организации труда [6]. Экономическое реформирование было нацелено на решение одной из задач перестройки, которая по замыслу ее инициаторов заключалась в том, чтобы «обеспечить людям сносную жизнь, социальную уверенность» [5: 24]. Путь к достижению данной цели заключался в ускорении экономического развития, повышении производительности труда [10]. По мнению М. С. Горбачева, начать его следовало с организационно-экономических и социально-психологических факторов, лучшего использования производственного потенциала, повышения действенности стимулирования труда, укрепления организованности и дисциплины, преодоления бесхозяйственности1. В своем докладе на XXVII съезде КПСС М. С. Горбачев подчеркнул: «Всякая перестройка хозяйственного механизма, как известно, начинается с перестройки сознания, отказа от сложившихся стереотипов мышления и практики, ясного понимания новых задач»2. К середине 1980-х годов для государственной власти идея о влиянии человеческого фактора на развитие материального производства не была новой. Огромная роль человеческого фактора в развитии социалистического производства не отрицалась также и в командно-административной системе советского общества [7].
В условиях глубокого кризиса и неэффективности существующей системы актуальность решения данных задач была обусловлена также активным развитием теневой экономики, дававшей к середине 1980-х годов по некоторым видам производства до 30–40 % товарной продукции3. Сложившаяся ситуация активизировала научный поиск. В трудах экономистов того времени значительное внимание уделялось проблемам выявления сущности и путей формирования нового типа экономического мышления, определялась его роль, содержание и значение для совершенствования хозяйственной практики. При этом тип сложившейся системы хозяйствования не подвергался сомнению. Рассуждения экономистов заканчивались выводами о необходимости научить людей «мыслить “по-хозяйски”» [8]. В этой трактовке вопрос о сущности экономического мышления и его путях решался в контексте материалистического подхода и господствовавшей тогда идеологической доктрины. Между тем социалистическое экономическое мышление как отраженный и переработанный образ реальной экономической действительности, объективной материальной основой для которого является обобществление производства, не позволяет говорить о формировании мудрого и рачительного хозяина [4].
Функционирование советской хозяйственной системы осуществлялось в рамках постоянного контроля за соблюдением заданий и стимулирования перевыполнения планов. Это приводило к унификации поведения экономических субъектов [15]. К середине 1980-х годов произошло осознание того, что кризисное состояние экономики во многом являлось порождением административно-командных методов и бюрократизма, при котором реальные общественные цели подменялись формальными, связанными, главным образом, с движением канцелярской документации [4]. Преодолению этого могла способствовать выработка нового политико-экономического мышления. Основные его характеристики представлялось возможным сформировать на основе осуществления самоуправления в трудовых коллективах, до которых в виде экономических нормативов доводятся приоритетные решения центральных органов. Управление в такой системе сводилось к согласованию интересов субъектов экономической деятельности [4]. Формирование подобного экономического мышления в соответствующих условиях предполагало включение человека с его творческим потенциалом во все процессы выработки хозяйственных решений в качестве активного и заинтересованного хозяина страны, своего предприятия, учреждения [9]. При таком мышлении, с точки зрения экономистов, ориентирами поведения экономических субъектов должны были стать: дисциплина, основанная на горизонтальных отношениях; организованность, позволяющая сочетать многообразие мышления с единством действий по достижению коллективно выработанной цели, свободу поступков – с личной ответственностью; инициатива и предприимчивость, а также стремление к самоуправлению [4].
В 1987 году Л. И. Абалкин подчеркивал, что выработку необходимых поведенческих стереотипов можно осуществить двумя путями: непосредственным воздействием на сознание и изменением объективных условий [1]. Одним из таких изменений в ходе перестройки был перевод предприятий на полный хозрасчет, самоуправление, самофинансирование, самоокупаемость [2]. Для развития самостоятельности хозяйствующего субъекта государство должно было создать правовую базу в виде законодательных актов, позволяющих сделать данное качество не самоцелью, а средством развития инициативы, предприимчивости и поиска оптимальных решений [13]. Одной из попыток создания соответствующих условий было принятие Верховным Советом СССР 30 июня 1987 года Закона «О государственном предприятии (объединении)»4. Он предусматривал участие всего коллектива и его общественных организаций в выработке важнейших решений, контроле за их исполнением, выборность руководителей производства. Основной формой осуществления этих полномочий в соответствии с законом являлось общее собрание, а в период между ними – совет трудового коллектива. Однако, несмотря на оживление творческой активности и относительное повышение производительности труда в годы перестройки, реформирование экономической системы все чаще давало сбои. Возможно, это было связано с противоречивым характером данного закона5. Наряду с провозглашением принципов, позволяющих развивать самостоятельность, в качестве одной из его целей было обозначено только укрепление государственной социалистической собственности, а в качестве главной основы для его деятельности сохранялся государственный план6. Поэтому какое-то время механизмом торможения процесса формирования таких качеств, как самостоятельность, активность, ответственность и восприятие себя хозяйствующим субъектом, оставалась «бюрократическая надстройка» с ее регламентацией, указаниями, инструкциями [13].
Формированию нового типа экономического мышления способствовало тогда воссоздание кооперации в промышленности, в том числе производство товаров народного потребления, развитие сферы услуг, индивидуальной трудовой деятельности в соответствии с законами, принятыми Верховным Советом СССР 19 ноября 1986 года и дополненными 26 мая 1988 года7. В преамбуле к Закону «О кооперации» было четко обозначено, что данный закон «…открывает широкий простор для инициативы и самоуправления, повышает ответственность членов кооператива за результаты своего труда»8.
В систему экономических отношений закладывались следующие поведенческие ориентации, явно свидетельствующие о формировании нового типа экономического мышления: получение доходов (прибыли) в соответствии с трудовым вкладом; повышение эффективности хозяйствования на основе самостоятельности; возможность быть собственником (в рамках кооператива)9. Но в этом законе сохранялись противоречия: кооперация называлась социалистической, что свидетельствовало о противоречивости при попытках практической реализации данного закона.
О масштабах деятельности людей в соответствии с «новыми» ценностями свидетельствуют следующие цифры: к 1 января 1988 года в СССР действовало 13,9 тыс. кооперативов, через три года, к 1 января 1991 года, их стало в 17,6 раза больше – 245 тысяч. Численность занятых в них возросла за этот же период в 39 раз – со 156 тыс. до 6,1 млн человек. Объем производимой продукции увеличился в 191 раз – с 350 млн до 67 млрд рублей. Число занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в 1988 году достигло 734 тыс. человек10.
Процесс практической реализации данного закона и восприятия его населением имел свои особенности. С одной стороны, созданию и работе кооперативов чинились препятствия со стороны местной бюрократии; у кооператоров из-за неустойчивости их положения, меняющихся «правил игры» сильна была ориентация на сиюминутную выгоду, распространены спекулятивные наклонности. С другой стороны, развитие кооперативного движения положило начало воссозданию в экономическом мышлении предприимчивости, самостоятельности, инициативы, показывало реальность появления альтернативы государственным предприятиям, возможность эффективной работы негосударственного сектора [2]. Кооперативам разрешали заниматься четырьмя видами деятельности: переработкой вторичного сырья, организацией общественного питания, производством товаров народного потребления и бытовым обслуживанием населения [12]. При этом возможности кооперативной деятельности в условиях, когда население работало за твердую зарплату, не зависящую от количества и качества труда, многими не были восприняты серьезно [12]. Шаблон умеренности в сознании человека был очень прочным. Об этом свидетельствовали материалы Института социологических исследований СССР о запросах и представлениях различных групп населения, согласно которым они характеризовались как скудные и находящиеся «на уровне цивилизованной бедности». Набор потребностей ограничивался 10–15 позициями как у группы интеллигенции, так и у группы «неперспективных сел», 80 % опрошенных заявили, что заработками довольны, 50 % – очень довольны, о прибавке к зарплате больше чем в 50 рублей и мечтать незачем. По мнению авторов исследования, это свидетельствовало об отсутствии желания и стремления, что стало возможной причиной медленного овладения выгодными формами трудовой деятельности (кооперация, подряд, аренда) [14].
Попытки практической реализации заявленных в конце 1980-х годов принципов предпринимательской деятельности встречали сильное сопротивление со стороны государства. На примере истории двух кооперативов «Прогресс» и «Техника», подробно изложенной в воспоминаниях первого легального советского миллионера А. Тарасова, видно, что само государство всячески препятствовало осуществлению подобной деятельности и формировало негативное мнение общественности. Предприниматели ощущали себя преступниками, ворующими деньги, и ждали наказания [11].
Развитие арендного движения в сельском хозяйстве, хотя и не получившее ожидаемого размаха, и развитие арендных отношений на предприятиях большинства отраслей народного хозяйства способствовали формированию нового экономического мышления и преобразованию государственной формы собственности в частную. Процесс развития арендных отношений был юридически закреплен законодательством СССР и союзных республик об аренде от 23 ноября 1989 года. Арендные предприятия и арендаторы стали владельцами, пользователями государственного имущества, собственниками получаемой продукции и доходов, которым предоставлялась возможность выкупа используемого имущества [2]. На 1 октября 1988 года количество предприятий, работающих на арендном подряде, составляло 58
в промышленности, 15 в строительстве, 19 в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании, а на 1 июля 1989 года их число заметно увеличилось: в промышленности – 903, строительстве – 449, торговле и общественном питании – 573, бытовом обслуживании – 9811. К концу 1990 года 2,4 тыс. таких предприятий было в промышленности, 1 тыс. – в строительстве, 400 – в бытовом обслуживании населения12. Быстрое увеличение количества предприятий, работающих на арендном подряде, свидетельствовало об определенном эффекте и способствовало возрождению чувства хозяина, заинтересованности работников в результатах своего труда [2].
Еще одним объективным условием формирования нового типа экономического мышления можно считать создание и начало деятельности совместных предприятий с участием иностранного капитала, применением передовых технологий и опыта организации производства. Количество таких предприятий также быстро увеличивалось [2]: если на 1 января 1989 года было зарегистрировано и действовало 191 такое предприятие, то на 1 января 1991 года – 290513.
Но, несмотря на проявленный населением интерес к новым формам экономической деятельности и попыткам ее осуществления, основные трудности в период перестройки были во многом обусловлены укрепленными в сознании стереотипами: внедрение аренды и коллективного подряда сдерживалось господствующей предубежденностью, что «нельзя много зарабатывать», что «это ущемляет интересы других», создает «армию безработных» [3].
Таким образом, в ходе изменения экономического мышления и в целом государственной политики периода перестройки началась выработка новой системы ценностных ориентаций и поведенческих стереотипов при сохранении существующих основ системы хозяйствования. Но такое несоответствие обнаружило необходимость смены не только типа экономического мышления, а типа всей экономической культуры и изменения основ экономической системы в стране. Вопрос о поиске эффективного и приемлемого экономического механизма с конца 1980-х годов занял центральное место. В результате опыта реформирования сложились предпосылки смены курса государственной политики, а осознание необходимости изменения типа экономической культуры, возможно, предопределило выбор радикального пути осуществления преобразований по созданию рыночной экономики.
ECONOMIC THINKING CHANGE IN USSR TRANSFORMATION PROCESSES
OF THE LATE 1980 – EARLY 1990s
Список литературы Смена типа экономического мышления в условиях трансформационных процессов конца 1980-х - начала 1990-х годов в СССР
- Абалкин Л. И. Новый тип экономического мышления. М.: Экономика, 1987. 191 с.
- Архипов А. Ю. Экономическое мышление: содержание и пути формирования. М.: Луч, 1994. 122 с.
- Боенко Н. И. Экономическая культура: проблемы и тенденции развития. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 182 с.
- Бойков В. Э., Иванов В. Н., Тощенко Ж. Т. Общественное сознание и перестройка. М.: Политиздат, 1990. 287 с.
- Бляхман Л. С. Перестройка экономического мышления. М.: Политиздат, 1990. 271 с.
- Горбачев М. С. Понять перестройку.. Почему это важно сейчас. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 400 с.
- Пономарев А. Н., Попов В. Д., Чичкалов В. П. Экономическая культура: (сущность, направления развития). М.: Мысль, 1987. 269 с.
- Селигмен Э. Экономическое понимание истории. М.: URSS, 2010. 100 с.
- Семенова Н. Б., Поломошнов А. Ф. Модернизация современной российской массовой экономической культуры. П. Персиановский, 2012. 161 с.
- Сидоров А. В. Советский Союз накануне распада. Опыт антикризисного управления. М., 2002. 178 с.
- Тарасов А. М. Миллионер: Исповедь первого капиталиста новой России. М.: Вагриус, 2004. 669 с.
- Фомин Б. Два года спустя. Размышления хозяйственника//Уроки горькие, но необходимые/Сост. В. С. Молдаван, А. Г. Гридчина. М.: Мысль, 1988. 347 с.
- Цимбалов И. П., Шевашкевич Г. М. Экономическое мышление и рыночное поведение. Книга 1. Начало реформ в России (1985-1990 гг.). Саратов: Саратовский государственный техн. ун-т, 1996. 168 с.
- Чигиринская Н. В. Теоретико-методологические предпосылки и особенности становления экономической культуры в России. М.: Дашков и Ко, 2006. 160 с.
- Kovacs, Janos Matyas. “East” -“West” cultural encounters: entrepreneurship, governance, econ. Knowledge. Sofia: Изток-Запад, 2004. 383 s.