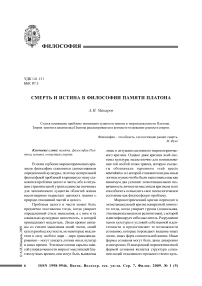Смерть и истина в философии памяти Платона
Автор: Макаров Андрей Иванович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме понимания сущности памяти в теории реальности Платона. Теория памяти и анамнезиса Платона рассматривается в контексте толкования сущности смерти.
Память, философия платона, истина, концепция смерти
Короткий адрес: https://sciup.org/14974305
IDR: 14974305 | УДК: 141.131
Текст научной статьи Смерть и истина в философии памяти Платона
В эпохи глубоких мировоззренческих кризисов философия становится самосознанием определенной культуры, поэтому центральной философской проблемой в кризисную эпоху становится проблема целого и части, ибо в ситуации стремительной утраты единства значимых для человеческого существа областей жизни несоизмеримо вырастает ценность знания о природе отношений частей и целого.
Проблема целого и части может быть предметно поставлена тогда, когда умирает определенный стиль мышления, а с ним и та социально-культурная целостность, к которой принадлежит мыслитель. Люди кровно связаны со стилем мышления своей эпохи, своей культурной целостности, но некоторые мыслители в силу особого дара – дара трансценди-рования – могут увидеть логики иных культур и иных времен. Эти иные логики скрыты завесой упорядоченности мира от мыслителей благополучных времен, они могут быть выявлены
Философия – это область, где постоянно рыщет смерть.
М. Фуко лишь в ситуации системного мировоззренческого кризиса. Однако даже кризиса всей системы культуры недостаточно для возникновения той особой точки зрения, которую схоласты обозначали термином «sub specie aeternitatis» и с которой становятся видны иные логики; нужно чтобы были выполнены еще как минимум два условия: экзистенциальная зах-ваченность личности мыслителя кризисом и его способность осмыслить свое психологическое состояние как философскую проблему.
Мировоззренческий кризис переходит в экзистенциальный кризис конкретной личности тогда, когда умирает группа (социальная, этнонациональная или религиозная), с которой идентифицирует себя мыслитель. Разрушение основ культуры и условий собственной идентичности и предоставляет те возможности сознанию, которые порождают видение иных логик, иных форм сознательной жизни. Иные формы сознания могут быть даны диахронно и синхронно. В диахронной перспективе иной формой сознания является структура сознания людей отдаленного прошлого твоего куль- турного ареала, а синхронной – сознание людей других культур.
И еще одна задача актуализируется в ситуации нарушения мирового порядка – задача мыслить системно. Мыслить системно – это стратегическая задача антикризисного мышления. Метафизический подход, разработанный греческими философами классического периода, возникает именно в таких условиях. Метафизика была одним из вариантов теории «мира как системы». Метафизические рассуждения носят спекулятивный характер, потому что система знания во время кризиса может быть выстроена только «сверху»: невозможно прийти к истине «снизу» в ситуации распада «нижнего мира» – нарушения устоявшегося порядка вещей. Метафизический путь «сверху» предполагает поиск источника первопринципов «по ту сторону» бытия вещей. Источник первоприн-ципов – вечность располагается «вне времени» и «за пространством». Античный вариант размещения источника первопринципов – это некое всеединое время-пространство, где пространство – это космос, а время – это так называемое «плероматическое время» – вечное прошлое, мифологическое время истоков. Модус настоящего вполне справедливо связывается античными философами не с истиной, а с иллюзорностью мира, порождаемой чувственным восприятием.
Классическая систематическая философия является попыткой выработать средства спасения социокультурной организации с помощью мощной идеологической системы (доктрины), объясняющей мир. Такой подход был характерен и для платонизма, и для последующих классических систематических философских учений о мире, например, для гегельянства. Предполагается, что истинная доктрина сможет помочь в создании нового типа ориентации людей, дезориентированных в ситуации кризиса идентичности. Платоновский идеализм в этом смысле строится как учение об общезначимых (всеобщих) идеях, или образах сознания, которые способны связать множество индивидуальных душ (индивидуальных сознаний) в некую общую Душу (надындивидуальную память). В современной науке вместо метафорического понятия неоплатоников «всеобщая Душа» используется понятие «структура», а применительно к со- циокультурным целостностям немецкий культуролог и египтолог Ян Ассманн предложил применять термин «коннективная структура». Он определяет понятие «коннективная структура» следующим образом: «Она действует соединяющим, связующим образом, причем в двух измерениях – социальном и временном. Как “символический мир смысла” (Бергер/Лукман) она связывает человека с его современниками, образуя общее пространство опыта, ожиданий и деятельности, чья связующая и объединяющая сила устанавливает взаимное доверие и возможность ориентации. Древние тексты именуют этот аспект культуры “справедливостью”» [3, с. 15].
Интерес Платона к догомеровскому периоду греческой истории, мифу и пифагореизму как к иным историческим типам мировоззрения был связан с его интенсивными поисками средств спасения той формы социальности и того способа мышления, которые сложились в древнегреческом полисе классического периода. Платоновская теория анамнезиса стала результатом осмысления связи идеи вечности с идеей истинного прошлого. До Платона попытки греческой интеллектуальной элиты создать соответствующую эпохе «перехода от мифа к логосу» коннективную структуру не увенчались успехом. Гомер, Гесиод и философы-досократики сумели только приостановить на какое-то время распад мифологической парадигмы мышления. Их философско-поэтическая прививка к традиционной греческой религиозности не могла остановить процесс дезинтеграции полисного древнегреческого общества потому, что причины кризиса залегали гораздо глубже тех поверхностных слоев текста древнегреческой культуры, которые пытались реформировать древнегреческие поэты и философы-досократики. «Гниение» социальности древнегреческого общества было вызвано нарастающим разделением труда и зарождением рынка. Остановить эти процессы поэзия не могла (на что, видимо, и указал Платон, когда изгнал поэтов из своего идеального государства). В IV–V вв. обеспечивающие единство древнегреческого социума культурно-языковой и культурно-религиозный механизмы были уже полностью разбалансированы. Возникла ситуация, когда стало необходимым осуществить переход от мифо- религиозного способа обоснования общегруппового мировоззрения к новому типу такого обоснования. Этим новым типом стал философско-теоретический способ идеологического обоснования мира. Философы, создавая такой способ, перетолковали фундаментальные мировоззренческие понятия, выполняющие ориентационную и солидаристскую функцию. Таких понятий много, но нас будут интересовать два из них: истина и память.
Дадим операциональные определения необходимых понятий. Истина – это знание, которое спасает и индивида («чувствующую душу»), и коллектив, с которым идентифицирует себя индивид («разумную часть души»). Истина в этом сотериологическом и социологическом смысле есть предел, последняя реальность. Это последняя граница сознания; за ней дышит все-ничтожащее Ничто. И именно то обстоятельство, что больше некуда отступать (наступать) заставляет человека совершать поступки или проступки (в случае ложно понятой истины). Возможность волящего разума, возможность действия связана с тем, что истина возвращает человека из умозрительного «мира идей», где она только и может быть обнаружена, в «мир вещей», мир тел и эйдосов (образов). Говоря образно, истина – это стена, от которой отталкивается воля. Она делает упругими мысли и потому порождает действие и действительность. Действительность – это модус реальности, возникающий благодаря способности действовать, то есть осуществлять волевые акты. Смысл Истины состоит в возвращении из атараксического мира теории, мира по ту сторону смерти, в пафосный мир борьбы противоположностей. Фундаментальными противоположными являются жизнь и смерть. В этом смысле Истина есть некий «приказывающий Предел», то есть обладающая логосом идея. Идеи создают «мир вещей», в частности, человеческую душу, благодаря наличию у них логосного начала. Платон, говоря об истинном разуме, связывает его с «подлинным и убедительным красноречием». А красноречие, в свою очередь, – с сущностью души, то есть речь создает душу.
Логос есть смысл. Благодаря своему логосному началу слова превращаются в смыслы, то есть такую концептуальную раз- метку сознавания, которая управляет сознанием и поведением человека, поэтому говорят: «человек действовал осмысленно». Смысл в этом кибернетическом значении есть то, от чего человек отталкивается и действует. Смыслы – это те символические образно-понятийные комплексы, которые программируют поведение. Другими словами, идея через посредство смысла соединяет план созерцания и действия. Поэтому, например, Платон в своих диалогах может поставить «на одну доску» теорию и миф, слово и дело, идею и тело.
Память – это способность сохранять логосы-смыслы; это обозначение онтологически укорененной структуры сознания, изоморфной структуры отношений между идеями, порождающими логосы. Причем Платон как холист считает, что индивидуальное сознание только причащается этой структуре, а не содержит ее. Причащение происходит при подсоединении к Космическому Сознанию, или Мировой Душе. Таким образом, память в ее отношении к истине является условием ее обнаружения. Поэтому и понятие памяти, по сути, должно включать в себя идею памяти индивидуальной души (память как способность к мемора-ции) и идею памяти Мировой души (Прапа-мять как надындивидуальная структура сознания). Наличие такой онтологической, космической памяти – необходимое условие для осуществления душой «воспоминания истины», приобщения к некоему систематичному сотериологическому знанию и соответствующему способу мышления. Основная функция онтологической памяти – связывать людей, богов и другие космические сущности в единый ансамбль явлений жизни. «Гармоничный ансамбль идей, подающих и отнимающих жизнь у существ», – это еще одно определение Мировой души.
Рассмотрим теперь связь понятий память и истина в контексте танатологии Платона. Проблему смерти – смерти частей космоса и смерти души – можно назвать абсолютно достоверным основанием практически всех рассуждений Платона. Постановка вопроса о смерти делает мышление чище и яснее, считает Платон. Смерть и истина – два аспекта одного и того же феномена – фено- мена жизни. Смерть – это отсутствие жизни, а жизнь – это стояние в истине. Речь, конечно же, идет о так называемой «истинной жизни», «вечной жизни». Сократ в «Федоне» говорит: «Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью» [4, с. 63; 5, с. 13]. Интересно, что этот тезис Сократ утверждает в качестве основной цели философии.
Смерть, несомненно, является формой зла для индивидуального организма: со смертью распадается целостность тела и индивидуальной души. Платон не признает бессмертия индивидуальных душ, он говорит только о бессмертии умной части души [1, с. 45–46]. Злым аспектом смерти является и смерть коллективного тела, разложение полисной морали. Эта смерть есть смерть второго порядка – абсолютное зло, разрушение коллективной Души. Однако у понятия смерти есть и второй слой смыслов – позитивных смыслов смерти. Их позитивный характер обусловлен связью понятий смерть и истина . Умирание – это возможность обретения душой видения истинного порядка мироздания, той первоначальной целостности, которая в силу исторических событий была утрачена человечеством.
Эти два аспекта смерти выявляются в рассуждениях платоновского Сократа о связи истины, смерти и воспоминания души о посмертном существовании. Платоновский Сократ решил сделать свою собственную жизнь аргументом в защиту тезиса об имманентном значении смерти для философии, основанной на онтологии «безвидного сущего». Такая онтология встречается уже у орфиков и пифагорейцев. Платон стремится синтезировать пифагорейскую мистериальную традицию и рационализм афинских философов, выбирает в главные герои своих диалогов не историческую фигуру Сократа, а некоего придуманного им Сократа. Додумать пришлось причастность Сократа к истинам «тайного учения» [5, с. 13].
Платон трактует смерть и как зло, и как благо. Этот диалектический подход проистекает из фундаментальной для всей древней философии установки рассматривать реальность как принципиально двойственную. В соответствии с теорией удвоения реальности всем понятиям присуща смысловая двойственность. Философия занимается различа- нием единообразного, то есть выявлением этой двойственности. Платон предложил свой метод различания – диарезис. Согласно Платону, и философское понятие, и мифологическая метафора – это различные средства познания истины: и то, и другое причащает сфере истинного космического порядка. Они выполняют эту свою сотериологическую функцию тем, что переносят (виртуально) сознание (душу) из одного слоя реальности в другой – из мира временных вещей в мир вечных идей. Расчетливый логический анализ и творческая интуиция, внушаемая Эротом, – два момента истинно философского мышления (ноэсиса). С помощью диарезиса разлагается на части «нерасчлененное целое», а с помощью ноэси-са части сопрягаются в «целое, разделенное в себе», – таковы две основные цели философствования по Платону. Теоретический и практический аспекты знания связаны в его философии самым тесным образом. Неразрывность теоретического и практического обусловлена тем, что многообразие опыта возможно только при условии его единства, которое «получает душа, когда вдается в рассмотрение сущего сама по себе» (Теэтет, 187а), а с другой стороны, «бытие (oysia) и становление (genesis) связаны так, что все становление в целом становится ради всего бытия» [2, с. 46]. Платон считает, что всем уровням бытия и сознания присущ изоморфизм. Его диалог «Государство» – яркий пример изоморфизма структур индивидуальной души, надындивидуальной души и деятельности. Кроме того, можно предположить, что задачей органического сочетания теоретического и практического аспектов бытия человека продиктованы и стилистические приемы создания текстов диалогов, и то, что свою философскую доктрину он излагает исключительно устно, с расчетом на отклик у конкретных людей, будь то ученики или диктаторы.
Резюмируя, еще раз отметим, что и танатология Платона и его онтология и философия памяти обусловлены его экзистенциальной захваченностью ситуацией гибели полисной организации жизнедеятельности античного человека; его учение об онтологической памяти Мировой души и теория анамнезиса указывают на поиск выхода из этой кризисной ситуации на путях холизма.
Список литературы Смерть и истина в философии памяти Платона
- Бобров, Е. А. Психологические воззрения древнегреческих философов/Е. А. Бобров. Варшава: [Б. и.], 1910. 234 с.
- Доброхотов, А. Л. Категории бытия в классической западно-европейской философии/А. Л. Доброхотов. М.: Изд-во МГУ, 1986. 342 с.
- Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.
- Федон//Платон. Федон. Пир. Парменид. М.: Мысль, 1999. 527 с.
- Шевцов, А. Введение в общую культурноисторическую психологию/А. Шевцов. СПб.: Тропа Троянова, 2000. 544 с.