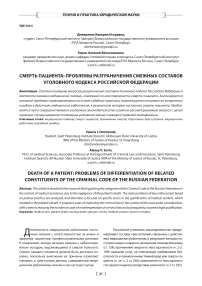Смерть пациента: проблемы разграничения смежных составов Уголовного кодекса Российской Федерации
Автор: Дмитренок В.И., Зорин А.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 4 (79), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам разграничения составов Уголовного кодекса Российской Федерации в контексте оказания медицинской помощи, повлекшей по неосторожности смерть пациента. Анализируются основные проблемы правоприменения на основе судебной практики, акцентируется внимание на конкретных ошибках в действиях медицинских работников, в результате которых наступила смерть пациента. Предлагаются пути совершенствования уголовного законодательства в рамках рассматриваемого вопроса с целью снижения случаев неверного толкования уголовного закона и неверной правовой квалификации.
Медицинская помощь, смерть пациента, причинение смерти, ятрогенные преступления, медицинские работники, врачебная ошибка
Короткий адрес: https://sciup.org/14131499
IDR: 14131499 | УДК: 343.6
Текст научной статьи Смерть пациента: проблемы разграничения смежных составов Уголовного кодекса Российской Федерации
Д еятельность медицинских работников постоянно связана с ответственностью за жизнь и здоровье пациентов, профессиональными рисками. К сожалению, иногда лечение связано с неблагоприятным исходом, выражающимся в смерти больного. Смерть каждого пациента должна быть детально изучена, поскольку выяснение ее причины позволяет говорить о преступном деянии, совершенном медицинским работником, или же о несчастном случае.
Российское уголовное законодательство предусматривает составы преступлений, связанные с действиями медицинских работников, в результате которых наступила смерть пациента: неоказание помощи больному (ст. 124); причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109); оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и принесенными тяжкий вред или смерть пациента (п. «в» ч. 2 ст. 238); причинение по неосторожности смерти пациенту вследствие халатности (ч. 2 ст. 293).
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) имеет в своем составе широкий спектр норм, в рамках которых осуществляется уголовное преследование медицинских работников в случае совершения последними профессиональных преступлений, повлекших смерть пациента. На наш взгляд, необходимость в дополнении УК РФ новыми нормами, отдельно закрепляющими ответственность медицинского персонала, отсутствует [1].
Особенности уголовной ответственности врачей, медицинских сестер, фельдшеров вследствие совершения ими действий, которые повлекли смерть больного, – вопросы, которые на протяжении нескольких десятилетий остаются крайне актуальными [6]. Это объясняется тем, что некоторые аспекты квалификации преступных деяний врачей в настоящее время остаются неразрешенными, что влечет за собой неверное толкование и применение норм уголовного закона правоприменителями. Наиболее дискуссионным остается вопрос разграничения норм, предусмотренных УК РФ и закрепленных в ч. 2 ст. 109; п. «в» ч. 2 ст. 238; ч. 2 ст. 293; ст. 124.
Для более глубокого понимания проблематики обратимся к статистическим данным 2022 и 2023 годов.
Бывший глава отдела по расследованию ятрогенных преступлений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК РФ) Дмитрий Зинин, выступая на конференции «Региональное здравоохранение – 2023», сказал, что в 2022 году в органы СК РФ поступило 5747 сообщений о преступлениях, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, по которым было возбуждено 1860 уголовных дел: 1396 – по ч. 2 ст. 109, 136 – по ч. 2 ст. 238, 57 – по ч. 2 ст. 293.
Согласно данным, представленным доцентом кафедры уголовного права Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина А.А. Бимбиновым на III Научно-практической конференции «Медицинское уголовное право», в 2023 году количество сообщений о преступлениях, совершенных медицинскими работниками, сократилось до 4431, а количество уголовных дел, напротив, увеличилось и составило 2332, из которых 1697 возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ, 463 – по ч. 2 ст. 238; 124 – по ч. 2 ст. 293.
Данные показатели свидетельствуют об актуальности вопроса правомерного привлечения к уголовной ответственности лиц, в чьих действиях содержатся реальные составы преступлений.
В связи с этим для более глубокого понимания проблемы необходимо проанализировать не только теоретические положения рассматриваемого вопроса, но и отдельные судебные акты, вынесенные в отношении медицинских работников в рамках рассматриваемой темы.
Так как какие-либо правовые разъяснения и правила квалификации ятрогенных преступлений в настоящее время отсутствуют, суды и следственные органы исходят из различных критериев разграничения неосторожного причинения смерти.
Так, Кыринский районный суд Забайкальского края вынес приговор врачу-анестезиологу, квалифицировав его действия по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Преступное деяние медицинского работника состояло в том, что он, принимая участие в операции по проведению кесарева сечения, не учел необходимость проведения предоперационной подготовки пациентки, в результате чего после введения общего наркоза у последней развился острый аспирационный синдром, повлекший за собой остановку сердца роженицы и, как следствие, ее смерть. В данном случае суд исходит из критерия субъективной стороны содеянного, которая выразилась в неосторожности по отношению к смерти пациентки.
В качестве примера можно также привести приговор Октябрьского районного суда города Мурманска в отношении врача-уролога, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Подсудимый провел операцию, в ходе которой допустил повреждение передней стенки прямой кишки пациента с образованием сквозного дефекта, в результате чего наступила смерть последнего.
Обращаясь к теоретическим положениям уголовного закона, следует отметить, что указанная судом уголовная норма является преступлением с двумя формами вины. По отношению к оказанной услуге у виновного лица должен наличествовать прямой умысел, по отношению к последствиям – неосторожность. Однако оснований полагать, что подсудимый имел умысел на оказание небезопасной услуги пациенту, исходя из судебного акта, не усматривается.
Более того, в приговоре суда также отражено обстоятельство о том, что по окончании операции хирург-уролог не заметил каких-либо повреждений в тканях и органах пациента, хотя должен был произвести ревизию органов брюшной полости и принять меры к недопущению развития воспалительного процесса, ставшего причиной смерти пациента. Данный факт свидетельствует о неосторожной форме вины хирурга-уролога. Отметим, что данный медицинский работник не является должностным лицом, поскольку не осуществлял ни административно-хозяйственные, ни организационно-распорядительные функции, что не позволяет нам говорить о возможности квалификации действий виновного в рамках ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Таким образом, на наш взгляд, действия подсудимого соответствуют ч. 2 ст. 109 УК РФ и подлежат квалификации по данной уголовной норме.
Опираясь на указанные приговоры судов, можно прийти к выводу: в целях разграничения смежных составов преступлений суды в обоих случаях использовали критерий субъективной стороны. Подобный подход видится несостоятельным, поскольку носит оценочный характер [2].
В рамках оказания услуг ненадлежащего качества, повлекших смерть потерпевшего, умысел виновного должен быть направлен на оказание некачественной услуги, что, зачастую, отсутствует при оказании помощи больным в рамках государственных учреждений здравоохранения. Умысел такого рода наиболее часто проявляется при оказании медиками платных услуг в частных клиниках, поскольку имеет место корыстная заинтересованность [3]. Кроме того, об умысле на оказание некачественной услуги свидетельствует тот факт, что виновное лицо не имеет законного основания на оказание медицинских услуг в связи с отсутствием лицензии или других причин, то есть лицо заинтересовано в оказании платной услуги, осознавая, что не вправе заниматься данной деятельностью [4].
Так, примером верной, на наш взгляд, квалификации действий медицинского работника в рамках оказания небезопасной услуги, повлекшей по неосторожности тяжкий вред или смерть пациента, является приговор Ленинского районного суда Магнитогорска в отношении врача-травматолога, оказывавшей косметологические услуги. Девушка, не имея сертификата по направлению «Косметология» и «Пластическая хирургия», проводила операцию по подтяжке лица, стоимостью в 15 тысяч рублей. Однако осужденная допустила нарушения при наложении швов, в результате чего у потерпевшей образовались неизгладимые рубцы, обезобразившие лицо (то есть действия медицинского работника принесли тяжкий вред здоровью потерпевшей).
Изучая судебную практику в рамках исследуемого вопроса, также можно выявить отсутствие единообразия толкования и применения уголовного закона при рассмотрении идентичных дел. Квалификация действий виновного лица разнится при фактически идентичных обстоятельствах.
Например, Раменский городской суд вынес приговор врачу-пульмонологу, квалифицировав его действия по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Подсудимая должным образом не провела своевременную диагностику состояния больного и не направила его на дополнительные исследования, что не позволило оперативно выявить заболевание и грамотно назначить лечение. В результате этого у больного развилась тромбоэмболия, и через непродолжительное время пациент скончался.
Примером противоположной квалификации при аналогичных обстоятельствах совершения преступления является приговор Алексинского район- ного суда Тульской области в отношении врача-терапевта. Последняя признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Подсудимая также своевременно не провела диагностические исследования, неправильно оценила состояние пациента, а также не направила последнего на консультации к узким специалистам. В связи с этим у больной закономерно начался воспалительный процесс, что привело к ее смерти.
Таким образом, в обоих случаях наличествует неосторожная форма вины по отношению к смерти пациентов, идентичные обстоятельства и поведение медицинских работников, однако квалификационная составляющая существенно разнится, что ставит вопрос о необходимости определения более четкой и единой регламентации разграничения рассматриваемых нами преступлений в целях единообразия судебной практики.
Отметим, что проблема квалификации ятрогенных преступлений состоит в неверном определении не только формы вины лица по отношению к последствиям, но и объективной стороны преступного деяния [5]. В подтверждение данного тезиса также обратимся к материалам судебной практики.
Так, Жуковским районным судом Калужской области был вынесен приговор в отношении участкового педиатра. Действия виновной были квалифицированы судом в рамках ч. 1 ст. 238 УК РФ. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. К врачу неоднократно обращалась мать четырехмесячного ребенка с жалобами на кашель и недомогание девочки. Педиатр, первично осмотрев больную, назначила лечение, но не направила пациента на проведение дополнительных исследований. Спустя непродолжительное время мать снова обратилась к врачу, поскольку назначенные педиатром лекарственные средства не оказывали положительного эффекта на состояние больного. Медик снова осмотрела девочку и назначила новые препараты. В течение короткого промежутка времени ребенок умер, поскольку развилась двусторонняя пневмония. Согласно заключениям экспертов, смерти девочки можно было избежать, если бы своевременно были проведены исследования легких и назначено соответствующее лечение.
Таким образом, педиатр легкомысленно отнеслась к лечению пациента, что привело к трагическим последствиям. Ее действия всецело охватываются ч. 2 ст. 109 УК РФ. Квалификация, определенная Жуковским районным судом, на наш взгляд, в корне неверна, так как норма, на которую указывает суд, не предполагает последствий в виде смерти потерпевшего. Кроме того, умысла на оказание небезопасной услуги, в контексте рассматриваемой ситуации, не усматривается.
Неверная квалификация действий виновного лица также противоречит соразмерности тяжести совершенного деяния и назначенного судом наказания. Согласно резолютивной части приговора, педиатру было определено наказание в виде штрафа в размере 150 000 руб. На наш взгляд, данное наказание несоизмеримо с последствием в виде смерти ребенка и противоречит одному из фундаментальных принципов уголовного закона, а именно – справедливости, установленных в ст. 6 УК РФ.
Другим примером, отражающим рассматриваемую нами проблему, является приговор, вынесенный одним из районных судов Калужской области в отношении дежурного хирурга районной больницы Людиновского района, действия которого суд квалифицировал по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. В приемный покой больницы был доставлен мужчина с травмами головы и повреждениями в виде ссадин на лице. Дежурный хирург визуально осмотрел пациента и выпроводил последнего из хирургического отделения, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения мужчины. Пациент был доставлен по месту жительства, где скончался в тот же день от отека мозга в связи с закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлияниями в мягкие ткани головы.
Квалификация, данная судом в описанном случае, видится также неверной, поскольку хирург в целом не оказал помощь пациенту, что свидетельствует об отсутствии в его действиях элементов объективной стороны состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. На наш взгляд, действия врача необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 124 УК РФ, так как данная норма уголовного закона предусматривает ответственность медицинского работника в связи с бездействием последнего, повлекшее смерть пациента, что и имело место в приведенной ситуации.
Отдельно необходимо отметить ошибки, совершаемые органами предварительного расследования в части определения субъекта преступного деяния. Данная проблема характерна для должностных преступлений, а в контексте рассматриваемой нами проблемы – для ст. 293 УК РФ, поскольку уголовную ответственность по ней могут нести исключительно должностные лица: главный врач, его заместитель, заведующий тем или иным отделением и исключительно в рамках полномочий, которыми они наделены в силу своего статуса.
Проиллюстрируем данный тезис. Хасавюртин-ский городской суд Республики Дагестан признал виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие халатности врача-инфекциониста, по совместительству являющейся заведующей детским инфекционным отделением. В больницу поступил ребенок с признаками инфекции, лечащим врачом была назначена подсудимая, которая допустила дефекты в оказании медицинской помощи ребенку, что впоследствии привело к его смерти. В частности, врач собрала неполный анамнез, не приняла меры к осуществлению диагностики ребенка в полном объеме, а также совершила ряд иных нарушений, которые вкупе не позволили определить точный диагноз и назначить соответствующее лечение. В данном случае подсудимая не выполнила обязанности как медицинский работник, поскольку эти мероприятия входят в стандарт оказания медицинской помощи и являются необходимыми в целях постановки диагноза; а ч. 2 ст. 293 УК РФ предусматривает ответственность за небрежное отношение к обязанностям административно-хозяйственного или организационного характера, которых в действиях медика не зафиксировано. Таким образом, действия врача нужно квалифицировать по ч. 2 ст. 109 УК РФ.
Для правильного разрешения вопроса о наличии в действиях медицинского работника преступного деяния и его последующей квалификации необходимо также устанавливать, в каком объеме и насколько оперативно врач оказал помощь больному. Факт несвоевременной или оказанной не в полной мере медицинской помощи позволит отграничить причинение смерти пациенту по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и несчастные случаи, при которых врачи проводят все необходимые действия по установлению диагноза больного, предпринимают меры по назначению соответствующего амбулаторного лечения или оперативного вмешательства, тем не менее пациент умирает, но в данном случае вина медицинского работника отсутствует.
Иным случаем в корне неверной квалификации действий медицинского работника является приговор, вынесенный Кировградским городским судом Свердловской области в отношении терапевта, состоящего в должности исполняющего обязанности заведующего терапевтическим отделением. Медицинскому работнику органом предварительного расследования было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ, а также по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Факт вменения двух взаимоисключающих норм уголовного закона ставит под сомнение профессионализм отдельных сотрудников органов следствия. Говоря о возникшей уголовно-правовой ситуации, стоит обратить внимание на то, что в терапевтическое отделение больницы поступил мужчина с признаками заболевания, медик осмотрел его и назначил лечение, которое не оказало должного воздействия на развивающуюся пневмонию пациента, и он через непродолжительное время был госпитализирован в терапевтическое отделение. Во время лечения медицинский работник допустил нарушения, состоящие в отсутствии ряда диагностических процедур, а также в выборе неверной тактики лечения больного, что и привело к его смерти. Таким образом, как и в предыдущем случае, лицом были на- рушены профессиональные обязанности в части непосредственного оказания медицинской помощи, а не неисполнения своих должностных обязанностей.
Говоря о разграничении рассмотренных норм, стоит обратить внимание и на затруднения, касающиеся применения ст. 124 УК РФ. Данная норма права применима к случаям полного неоказания помощи больному лицом, обязанным ее оказывать. Однако на практике нередки случаи вменения данной нормы и в тех ситуациях, когда фактически медицинская помощь была оказана пациенту, но ненадлежащим образом или недостаточно полно, что привело к трагическим последствиям. Необходимо отметить, что отсутствие помощи следует трактовать как полное и абсолютное ее неоказание, а если было проведено недостаточное количество медицинских мероприятий – ст. 124 УК РФ не может быть применима.
Вновь обратимся к судебным документам. Так, Сергиево-Посадский городской суд Московской области признал виновными в неоказании помощи больному двух врачей-акушеров. Обстоятельства произошедшего довольно типичные: в перинатальный центр поступила женщина на 40 неделе беременности с рядом сопутствующих диагнозов (отеки, миопия и др.). Врачи приняли решение произвести индуцированные (искусственные) роды, в процессе проведения которых медиками были допущены ошибки, приведшие к гипоксии плода и его последующей смерти. В частности, было установлено, что акушерам надлежало произвести кесарево сечение для сохранения жизни плода. Таким образом, медицинские работники допустили нарушения порядка оказания медицинской помощи при родовспоможении.
На наш взгляд, в данном случае неуместно говорить о вмененной врачам норме права, поскольку сам факт оказания непосредственной медицинской помощи наличествует, а последствия в виде смерти плода наступили в связи с врачебной ошибкой во время родовой деятельности пациентки. Таким образом, в действиях медиков усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 109 УК РФ.
Следует констатировать, что затруднения в квалификации действий медицинских работников испытывают не только сотрудники правоохранительных органов, но и судебной системы, что и было проиллюстрировано на примере некоторых судебных актов. Данная проблема присутствует в большинстве регионов нашей страны, что обуславливает необходимость в принятии мер к устранению пробелов и коллизий в правоприменительной практике.
Одним из решений данной проблемы видится разработка и введение в действие отдельного разъяснительного акта – Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, закрепляющего правила и особенности квалификации преступлений ятрогенного характера, поскольку в настоящее время материалы юридической практики в рамках рассматриваемого вопроса отсутствуют. В данном документе необходимо отразить основные положения по квалификации преступных действий, совершаемых медицинскими работниками (врачами и средним медицинским персоналом), в рамках некоторых положений УК РФ, а именно ч. 2 ст. 109; ст. 124, п. «в» ч. 2 ст. 238; ч. 2 ст. 293; правила квалификации действий виновных в совершении ятрогенных преступлений лиц в форме соучастия; перечень обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию в рамках предварительного расследования уголовных дел ятрогенного характера. Говоря о разграничении вышеуказанных норм уголовного законодательства, необходимо обратить внимание на объективную сторону преступлений в контексте разграничения ч. 2 ст. 293 и ч. 2 ст. 109 УК РФ, а именно установить, какие нарушения допустил медицинский работник, – входящие в его должностные обязанности, организационного, административно-хозяйственного характера или же исключительно профессиональные, существует ли причинно-следственная связь между ними и наступившей смертью пациента.
Разумеется, основополагающим критерием в разрешении вопроса наличия признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, является факт совершения противоправных действий медицинским работником, являющимся должностным лицом. К сожалению, данный аспект довольно часто игнорируется правоохранительными органами, что влечет за собой неверную квалификацию действий лица. На наш взгляд, в предложенном правоприменительном акте необходимо указать, каких лиц необходимо относить к должностным в контексте расследования ятрогенных преступлений (главный врач, заведующий отделением и др.).
При разграничении норм, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ отдельное внимание необходимо уделять факту установления наличия или отсутствия «медицинской услуги», дефиницию, характеристики которой также необходимо отразить в соответствующем акте, поскольку именно это позволяет разграничить приведенные составы УК РФ.
Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ, стоит отметить, что для данного преступления характерно только полное неоказание помощи больному. Данный аспект также нуждается в закреплении, поскольку, как видно из вышеописанных примеров, правоохранительные органы допускают ошибки в квалификации действий медицинских работников в рамках указанной нормы права.
Издание разъяснительного документа такого рода позволит устранить ошибки, допускаемые правоприменителями при толковании уголовного закона в рамках рассматриваемого вопроса, что, несомненно, поможет как работникам следственных органов, так и судам грамотно квалифицировать преступные действия, совершенные медицинскими работниками, и в соответствии с законом назначать последним справедливое наказание.
Список литературы Смерть пациента: проблемы разграничения смежных составов Уголовного кодекса Российской Федерации
- Питулько К.В. Проблемы квалификации ятрогенных преступлений // Пролог: журнал о праве. 2021. № 3. С. 103. EDN: OUIKFO
- Дунин О.Н. К вопросу об уголовной ответственности медицинских работников за причинение смерти по неосторожности // Baikal Research Journal. 2023. № 1. С. 349. EDN: VFRDPC
- Пирогова Е.Н., Пшеуч Р.Х. К вопросу о квалификации ятрогенных преступлений // Закон и право. 2021. № 11. С. 145. EDN: TCQCDW
- Гайдар А.А. Проблемы квалификации ятрогенных преступлений по ст. 238 УК РФ // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2020. Т. 2, № 4. С.104. EDN: NTAKIQ
- Игонина Е.О. Квалификационные казусы применения ст. 238 УК РФ при расследовании ятрогенных преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 1. С. 128-134. EDN: EZFIUT
- Смыслова В.Н., Краснова К.А. Проблемы реализации соматических прав человека в уголовном судопроизводстве // Нравственность и гуманизм в праве и культуре: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 23 ноября 2022 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии; Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности "Университет", 2024. С. 188-191. EDN: VWXMXQ