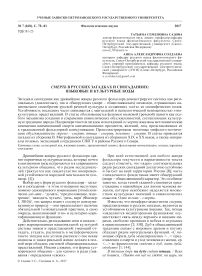Смерть в русских загадках и сногаданиях: языковые и культурные коды
Автор: Садова Татьяна Семеновна, Солдаева Анна Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (168), 2017 года.
Бесплатный доступ
Загадка и сногадание как древнейшие жанры русского фольклора демонстрируют систему как региональных (диалектных), так и общерусских (шире - общеславянских) символов, отражающих национальное своеобразие русской речевой культуры и создающих «сеть» ее специфических кодов. Устойчивость последних часто связывается с ментальной и психологической неизменностью этнокультурных представлений. В статье обосновывается феномен языковой (речевой) памяти как особого механизма создания и сохранения символических обусловленностей, составляющих культурную традицию народа. На примере текстов загадок и сногаданий о смерти показаны метонимические замещения наименований смерти наименованиями предметов, явлений, лиц, представляющих ее в традиционной фольклорной коммуникации. Проиллюстрированы типичные мифолого-поэтические обусловленности: дерево - смерть, птица - смерть, полотно - смерть. В статье приводятся загадки из сборника В. Митрофановой и сногадания из сборников XIX и XX веков, а также материалы полевых экспедиций сотрудников СПбГУ в районы Русского Севера.
Культурный код, языковая память, традиционный символ, фольклорная коммуникация, загадка, народные сногадания
Короткий адрес: https://sciup.org/14751244
IDR: 14751244 | УДК: 81-23
Текст научной статьи Смерть в русских загадках и сногаданиях: языковые и культурные коды
Древнейшие жанры русского фольклора хранят первичные культурные коды, которые почти в неизменном виде встречаются и в современном культурном общении, что рядом исследователей трактуется как свидетельство вневременной устойчивости народной ментальности (см., напр.: [4]).
Выбор двух форм русского фольклора – загадки и сногадания – в этом отношении неслучаен: помимо однокорневого именования (этимологически гад-ати – ‘думать’, ‘предположение, подозрение’, ‘находить чутьем’, ‘речь, вера’ (Фасмер: I, 3810))1, эти жанры имеют сходную коммуникативную природу – они предполагают наличие обязательной толковательной практики, в свою очередь, выполняющей этно- и культурно-идентификационную функцию.
Действительно, разгадывание снов и загадок – ярко маркированная национальной культурой система знаков и представлений: умеющий отгадать, угадать, распознать в метафорическом тексте загадки или устном рассказе о сне некие символы и знаки реальной жизни должен в полной мере обладать системой общенациональных представлений. Иными словами, эти формы устноречевого общения – для «своих» и ради узнавания / определения «своих».
При всей естественной для любого жанра фольклора текучести и вариативности текста следует отметить, что «ядро» соотносительных рядов русских сногаданий достаточно устойчиво и бытует на всей территории России [8]; часть «загадочного» фонда также имеет общерусский (шире – общеславянский) характер. Это особенно заметно, когда темой гаданий становится представление о важнейшем для жизни человека явлении, которое неизбежно наделяется множеством культурных значений и символических смыслов. Одно из них – смерть .
Известно, что метафоры-заместители смерти , представленные в русских загадках, являются ее устойчивыми культурными знаками. Так, птицы «наделяются медиаторскими функциями: осуществляют связь между верхним и нижним мирами, свободно проникая в небеса и спускаясь в преисподнюю» [2: 558]. Дуб в общеславянской традиции связан с мировым древом и потому обладает рядом интегральных функций. «С помощью образа дуба моделировались <…> представления о смерти и уход человека из жизни, ср. <…> во фразеологии глядеть в дуб, дать дуба, одубеть » [1: 144].
В тёмном бору на дубу сидит птица, / Всяк её боится, / Никто от неё не уйдёт: ни царь, ни царица, ни красная девица, / Ни рыба в море, ни заяц в норе. Смерть (Загадки, 61)2. Очевидно, что сакральное поле «смерти» подчеркивается характерными лексическими маркерами с семантикой страха, неизбежности, потусторонности: в темном бору, всяк боится, никто не уйдет. Сходные символические соотношения ожидаемо находим и в народных сногаданиях: Птица во сне – к покойнику (СДК-49, Ивановское, 1990)3; Увидеть птицу в окне – услышать о смерти (Ляцкий, 140)4 и др.
В современном интернет-пространстве, на различных «мистических» сайтах можно обнаружить те же приметы сна:
Какие сны предвещают смерть близкого человека? Сюжетов таких сновидений великое множество, упомянем самые однозначные:
-
• если во сне у вас выпадает зуб без крови – это предвестие смерти близкого человека вообще;
-
• плохим предзнаменованием выступает птица, стучащаяся в оконное стекло, особенно если она его разбивает и врывается в комнату и др. ( http://paranormalnost.ru ).
И. Н. Райкова замечает, что «традиционная загадка чрезвычайно фамильярна с такими серьезными темами, как смерть, гроб, покойник. <…> Практически во всех загадках <…> эти вещи, которые должны вызывать священный трепет, вышучиваются, что, вероятно, отражает стремление древнего коллективного сознания победить смехом страх перед смертью и таким образом самоё смерть» [7: 11]. Особенности древней смеховой культуры хорошо исследованы [5], и традиционные игры со смертью (например, обряд «игры при покойнике») известны этнографической науке [3]. В данном случае важно заметить другое: загадки о смерти не столько ее высмеивают, сколько придают ей характер повседневности, обыденности. На языковом уровне это достигается путем номинации предметов, метонимически связанных с фактом смерти. Поэтому смерть и в «загадочных» текстах, и в традиционных сногаданиях часто замещается устойчивым набором вещных заместителей: вспаханной грядой, новым домом, разомкнутым кольцом, дорогой и т. д.
Примечательно, что этот общий межжанровый фонд символических соотношений весьма устойчив и, на наш взгляд, во многом благодаря так называемой языковой памяти, особому феномену народной устноречевой культуры, основу которой составляет речевой прецедент – устойчивая и бесконечно воспроизводимая в своей цельности номинация помысленной ситуации. По аналогии с «классическим» фразеологизмом такой речевой прецедент не создается в потоке речи, а воспроизводится целиком. Важно и то, что в отличие от фразеологической единицы лексическое варьирование речевого прецедента неизбежно, причем путем различных видов пере- носа – как метафорического, так и метонимического характера.
Для примера обратимся к соотносительным рядам сноприметы и загадки с темой «смерть», в которых участвует один вещный символ с исходной семантикой «дерево». Условно эту соотнесенность можно выразить формулой: «дерево (дуб) → смерть»: Скрип дерева – к смерти (Ляц-кий, 140).
Возможные варианты речевого прецедента, обусловленные лексическими замещениями смерти:
<деревянное корыто>: Сидит сова на корыте , / Не можно её накормити / Ни попам, ни дьякам, ни миром, / Ни добрыми людьми, ни старостами. Смерть (Загадки, 61);
<жилище из дерева>: Дом , разваливающийся по бревну , – к разорению, смерти (Ляцкий, 143); Если видишь новые дома <…> – то умрет кто-нибудь в доме (Харламов, 25)5; Дом строящийся – к покойнику (Якушкина, 30)6.
В перечисленных примерах обнаруживается компиляция нескольких речевых прецедентов, имеющих схожее культурное значение: «сова (птица)» – «смерть»; «дом для жизни» – «дом для смерти» (домовина – ‘гроб’). Интересно, что обязательная «деревянность» погребального жилища уступает обобщающему представлению о загробном доме – так возникают метонимические цепочки номинаций исходного символа с широкой жанровой синонимией (дом – здание – изба – двор – семья): Видеть себя в новом, иногда не отстроенном здании – смерть личная, или смерть того, кто приснился (Никифоровский, 137)7; Избу развалившуюся видеть, двор – отъезд хозяина, а иногда и смерть его или кого-нибудь из домашних (Дерунов, 151)8; Из семьи кто-то уходит во сне – умирает (Харламов, 25).
Этот же речевой прецедент ( дерево / дом – смерть ) обнаруживается в других жанрах фольклора, например в девичьей обрядовой песне, весьма точно его (прецедент) воспроизводящей:
[Ей неловок сон привиделся:] Пустая хоромина , Все углы развалилися, На печище котище лежит, А по полу гусыня, А по лавочкам ласточки, По окошечкам голуби.
Как пустая хоромина , Все углы развалилися, По бревну раскатилися ! (Киреевский, 70)9.
Актуализированные здесь «вещные» символы смерти чрезвычайно устойчивы и весьма показательны.
Смерть как культурный концепт (по терминологии Н. И. Толстого [10]) в жанре загадки реализуется при помощи тех же символических обусловленностей и обладает следующими основными культурными значениями: «всеобщность»
(перед смертью все равны: На горе Волынской / стоит дуб Ордынской , / На нём сидит птица Веретено , / Сидит и говорит: «Никого не боюсь: ни царя в Москве, ни короля в Литве». Смерть (Загадки, 61)); В тёмном бору на дубу сидит птица , / Всяк её боится, / Никто от неё не уйдёт: ни царь, ни царица, ни красная девица, ни рыба в море, ни заяц в норе. Смерть (Загадки, 61)); «прожорливость», «ненасытность» ( Сидит сова на корыте , / Не можно её накормити / Ни попам, ни дьякам, ни миром, / Ни добрыми людьми, ни старостами. Смерть (Загадки, 61)); «обладание властью над всем, кроме самой смерти и бога» ( Сидит птица на кусту , молится самому Христу: «Дал ты мне власть над людями и зверями, над птицами и рыбами, только не дал ты мне власти над самой собой». Смерть (Загадки, 61)).
Перечисленное подтверждает мысль о том, что в мире загадки смерть предстает как нечто оформленное, материальное, едва ли не бытовое. Эта повседневность смерти поддерживается и привычными (прецедентными) речевыми соответствиями, не всегда (и даже чаще всего – чрезвычайно редко) носителем традиционной культуры мотивированными с точки зрения их логики или содержания.
В народном соннике, как указывалось, существует «ядро» – устойчивая система знаков-соответствий независимо от региона и времени их фиксации, в том числе – предвещающих смерть: выпавший зуб, новый бревенчатый дом, разбитое яйцо, высохший ручей, птица в окне, распаханная межа и др.
Зачастую единственным «объективным» показателем именно такой (а не иной) обусловленности знака и следствия является речевая память: носитель культуры по-своему объясняет традицию зафиксированных обусловленностей, причем важно то, что в этом объяснении большую роль играют собственно языковые (лексико- семантические) факторы: <Почему выпавший зуб обозначает смерть?> Зуб-то тверёдый. Значит, кость это, а если кость усохнет или умрет, вот и смерть пришла. Как без кости-то жить? (СДК-29, Лампожня, 1986).
Метафорические сближения в народном соннике – частый тип обусловленной связи снознака и его последствия, о чем Н. И. Толстой писал как о типичном способе создания снопрогноза [9]. Если видишь новые дома <…> – то умрет кто-нибудь в доме (Харламов, 25); Зуб выпавший видеть у себя предвещает большое несчастье (Балов, 209)10; Зуб выпавший – умрет кто-то в семье (Якушкина, 30) и др. Однако, думается, первична в этом языковом сближении метонимия – древнейшее замещение имени сакрального и таинственного явления смерти названием предмета, ее «сопровождающего». Так, полотно, ткань, ткачество, белый платок во сне – знаки похорон, смерти, потери в семье: Ткать во сне – к покойнику (Колосов, 171)11; Стол во сне прикрывать скатертью – покойник в доме (Колосов, 171); Платок белить во сне – к смерти (СДК-18, Веркола, 1984); Платок повязывать – к слезам или смерти в семье (СДК-29, Лампожня, 1986) . Кусок ткани как часть погребального обряда становится во сне символическим предупреждением о близкой смерти в доме. Метонимия множит и дробит исходную символику обусловленной связи «белая ткань – смерть», создавая синонимический ряд однофункциональных наименований-снознаков: ткать (полотно) – скатерть – платок – белый платок.
В древнейших жанрах русского фольклора – сногаданиях и загадке – представлены мифологические и ментальные способы кодирования традиционных знаний о мире, причем немаловажным фактом этого кодирования оказывались собственно языковые механизмы создания общекультурных символов.
Список литературы Смерть в русских загадках и сногаданиях: языковые и культурные коды
- Агапкина Т.А. Дуб//Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т./Под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 144-146.
- Гура А.В. Орёл//Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т./Под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 558-559.
- Гусев В.Е. От обряда к народному театру: (Эволюция святочных игр в покойника)//Фольклор и этнография: Обряды и обрядовый фольклор/Отв. ред. Б.Н. Путилов. Л.: Наука, 1974. С. 49-59.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 608 с.
- Лихачев Д.С., Панченко А.М. Смеховой мир Древней Руси. М.: Наука, 1976. 213 с.
- Паранормальность . Режим доступа: http://paranormalnost.ru (дата обращения 12.04.2017).
- Райкова И.Н. Загадка сегодня: традиции и новации//Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 6. М., 2004. С. 7-15.
- Садова Т.С. Язык народного сонника: общерусский инвариант и региональная специфика//История регионального текста: жанр -стиль -язык: Монография/Отв. ред. Т.П. Рогожникова. Омск: Вариант-Омск, 2012. С. 145-160.
- Толстой Н.И. Толкование снов: беглый взгляд с филологической и этнографической точек зрения//Наука в России. 1994. № 3. С. 33-37.
- Толстой Н.И. Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры//Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. С. 41-63.