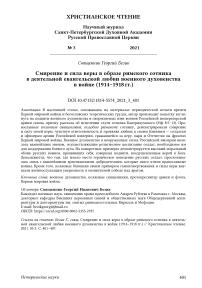Смирение и сила веры в образе римского сотника в деятельной евангельской любви военного духовенства в войне (1914-1918 гг.)
Автор: Безик Георгий Иванович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье, основываясь на материалах периодической печати времен Первой мировой войны и богословских теоретических трудах, автор производит попытку взглянуть на подвиги военного духовенства и окормляемых ими воинов Российской императорской армии сквозь призму рассказа об исцелении слуги сотника Капернаумского (Мф 8:5-13). Православные полковые священники, подобно римскому сотнику, демонстрировали смирение и силу своей веры, чувствуя ответственность и проявляя любовь к своим ближним - солдатам и офицерам армии Российской империи, сражавшейся за веру, царя и Отечество на фронтах Первой мировой войны. Военное духовенство в вооруженных силах Российской империи являлось важнейшим звеном, осуществляющим религиозное воспитание солдат, необходимое им для поддержания боевого духа. На конкретных примерах демонстрируется высокий моральный облик русских воинов, проявивших себя, совершая подвиги, воодушевленные верой в Бога. Доказывается, что там, где имело место героическое поведение русских солдат, прослеживалась связь с важнейшими христианскими добродетелями, которые свято чтили православные воины. Кроме того, полковые батюшки своим примером самопожертвования и силы веры внушали военнослужащим уверенность в неминуемой победе над врагом.
Военное духовенство, полковые священники, протопресвитер армии и флота, первая мировая война
Короткий адрес: https://sciup.org/140255116
IDR: 140255116 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_401
Текст научной статьи Смирение и сила веры в образе римского сотника в деятельной евангельской любви военного духовенства в войне (1914-1918 гг.)
Институт военного духовенства в современной России продолжает укрепляться и совершенствоваться с момента его восстановления в 2009 г. Данное обстоятельство вызвало закономерный научный интерес со стороны российских исследователей, которые пытались путем проведения ретроспективного анализа обнаружить положительный опыт деятельности военного духовенства Российской императорской армии. Одним из самых героических и плодотворных периодов служения военных священников является период Первой мировой войны 1914–1918 гг. В тех условиях полковые батюшки как никогда высоко проявили себя в деле воспитания высокого морального облика и поднятия боевого духа солдат и офицеров.
Изучение сюжетов Священного Писания приводит на ум определенные мысли о параллелях между служением военного духовенства. В частности, рассказ об исцелении слуги сотника Капернаумского в образе римского сотника образно демонстрирует смирение и силу веры в деятельной евангельской любви военного духовенства в Первой мировой войне. Для иллюстрации приведем цитату из Евангелия от Матфея: «Приступил к Нему сотник, прося Его и говоря: Господи, отрок мой лежит дома расслабленным и тяжко мучится. И сказал ему Иисус: Я приду и исцелю его. Но сотник в ответ сказал [Ему]: Господи! я не достоин, чтобы Ты вошел под кровлю мою; но только скажи слово, и будет здрав отрок мой» (Мф 8:5–13).
Как писал Иоанн Златоуст, «Вера открывает даже врата смерти, заключает небо, изменяет пределы природы, укрощает силу огня, обращает пламень в росу и притупляет жало смерти» [Иоанн Златоуст, 1904, 936].
Та же искренняя и сильная вера, какую показал римский сотник Иисусу Христу, была необходима и православному воину — не только в мирное время, но и в военное, в особенности в годы Великой войны 1914–1918 гг. Она помогала ему дать точный и правильный отчет в его собственном предназначении и позволяла пролить истинный свет на его воинский подвиг во время боевых действий. Сильная вера внушала ему, как высока и угодна его служба перед Богом, как почетна и добродетельна она перед обществом.
Военное духовенство в Российской императорской армии выполняло важнейшую роль по укреплению веры военнослужащих. Это выражалось в том, что именно полковые батюшки во время духовного окормления своей паствы обосновывали идею о воинской службе не только как о звании или обязанности, а как об особом подвиге самопожертвования и любви к ближнему, объясняли ее как чрезвычайный крест труда, терпения и даже смерти, добровольно принимаемой ради сохранения веры, спасения царя, ради счастья и спокойствия Отечества.
Смирение и сила веры, подобные тем, что проявил римский сотник, позволяли православным солдатам и офицерам в Первую мировую войну совершать подвиги во благо своего Отечества, демонстрируя при этом самопожертвование и чудеса храбрости. Подобный пример в самом начале войны показал стрелок из запасных Евгений Васильевич Агафонов. Интересно то, что свою веру Агафонов укрепил, будучи послушником Ново-Афонского монастыря на Кавказе до начала военных действий. Отправившись добровольцем защищать свою Родину, новоиспеченный военнослужащий на деле доказал преданность своей вере и Отечеству.
24 ноября 1914 г. Евгений Агафонов вместе со своей ротой лежал в окопах на расстоянии менее трехсот метров от позиций противника. Услышав, как один из раненых стрелков, оставшийся близ австрийских окопов, мучительно стонал, Агафонов, прочитав молитву, несмотря на все предостережения и не дождавшись наступления темноты, бросился спасать умирающего товарища. Героя не остановил ожесточенный обстрел австрийских войск по каждому высунувшемуся из окопов. Именно бесстрашие и героизм православного воина ошеломили австрийцев, которые прекратили стрелять на время, пока Агафонов направлялся на помощь своему товарищу. После того как противник осознал намерения Агафонова спасти товарища, когда тот пытался взять раненого и отнести к своим окопам, был открыт огонь, нанесший герою смертельные раны. Евгений зашатался, упал на колени и, последний раз осенив себя крестным знамением, замертво упал рядом с сослуживцем, которого пытался спасти. Стрелки говорили, что Агафонов был ранен в голову и недолго мучился, судя по всему, Милосердный Господь избавил от продолжительных мучений Своего верного раба.
Командование Евгения Агафонова представило героя к награждению Георгиевским крестом, а его товарищи стрелки чтили его память и гордились его святым подвигом (Ливанский, 1916, 302).
Солдат Евгений Агафонов, словно римский сотник, проявил силу своей веры и любовь к ближнему, отправившись под угрозой смертельной опасности на помощь сослуживцу. Находясь под властью веры в Бога и Отечество, он доказал, что на Великой войне может победить только тот, кто, не щадя собственной жизни, помогает своим ближним.
Описывая факт обращения римского сотника к Спасителю, Блаженный Иероним Стридонский пишет, что Господь «обещает сейчас же пойти и исцелить слугу, потому что видит веру, смирение и благоразумие сотника» [Иероним Стридонский, 1903, 125]. Одна из важнейших добродетелей, такая как смирение, была присуща православным солдатам. Полковой священник А. Смирнов делился своими мыслями об этом на страницах журнала «Вестник военного и морского духовенства». Он писал, что свойственное русскому православному человеку смирение выражалось на войне в том, что «он положительно не способен возводить себя на степень героя, так как смотрит на воинское дело не как на особенный подвиг, а как на естественный, хотя и тяжелый долг, как на страдную пору, которую так или иначе, а нужно пережить» (Смирнов, 1915, 22–23).
Частое проявление этой добродетели, по мнению Смирнова, было связано с крестьянским духом основной массы русского воинства. Он проводит аналогию с тяжелыми крестьянскими полевыми работами, когда, для того чтобы выполнить все необходимые дела, крестьянам приходилось вставать с первым просветом зари, ложиться чуть не в полночь, проводить все время на жутком солнцепеке, довольствоваться согретой, а иногда значительно испортившейся водой, утомляться до полного изнеможения и переживать иные тяготы непростого крестьянского труда. Однако русскому крестьянину никогда не приходила в голову мысль о том, что он делает что-то необычайное и сверхдолжное. Крестьянин делал всю сложнейшую и изнурительную работу без всяких раздумываний, рассуждений и колебаний. Именно так русский солдат относился и к военной службе, когда необходимо было напрягать все свои силы и умения для борьбы с врагом.
Преданность долгу, скромность и смирение, бесстрашие перед лицом смерти, — все эти качества воспитывала в русских крестьянах Православная Церковь. Оказавшись на фронте, православные воины, окормляемые военным духовенством, осознавали связь в проявлении этих качеств в мирной жизни и на войне, в противостоянии с врагом.
Высокие моральные качества русских солдат, прививаемые им Русской Православной Церковью, а в частности военным духовенством, признавались и противниками. Показательна в этом отношении статья доктора Штильмана, профессора богословия Йенского университета, опубликованная в одной из немецких газет. Штильман так описывал настроение и дух наших армий: «Я долго наблюдал за психологией русских солдат как на полях Польши, так и здесь, в лагерях для пленных. По-моему, главная ошибка наших стратегов состояла вовсе не в преуменьшении численности или вооружения русских войск, а в непонимании духа русского народа. Он проникнут глубокой религиозностью, которую мы не принимали в расчет. Мы думали, что русские язычники, что их вера на ступень выше обыкновенного идолопоклонства, что они в религиозном развитии немногим отличаются от новообращенных дикарей наших колоний. Для немцев явилось загадкой единомыслие русского народа, а между тем это единение находится в прямой зависимости от религиозного подъема русских. Какой-то дьявол вбил в умы этих мистиков, будто германцы оскверняют их церкви, вешают „попов“, покушаются на их веру. Этого довольно было, чтобы из слабосильных русских дикарей сделать новых крестоносцев, геройски умирающих за родную религию» (Благочестие, 1916, 606).
Описывая моральный дух православных солдат в лагерях для военнопленных, профессор вспоминал: «Я видел, как умирали в плену в Ростоке раненые русские солдаты. Они ни о чем не просили, никому не хотели писать; только, даже в бреду, звали своих „попов“ и мучились, не имея возможности совершить в последний раз таинство Евхаристии по своему обряду. Я напутствовал трех из них и не мог не прослезиться, видя, с какою верой целовали они мой крест, а особенно медные кресты, висящие на груди каждого солдата. Таких фанатиков сломить очень трудно; германским войскам придется встретить еще более страшное сопротивление, когда они ворвутся вглубь России. Нужно стараться относиться с осторожностью и уважением к их святыням, привлекать на нашу сторону русское духовенство хорошим обращением, если мы не хотим увеличить стойкость русских солдат» (Благочестие, 1916, 607).
Интересно заметить, что в представлении немцев подданные Российской империи уподоблялись язычникам. Однако на деле оказалось, что православные воины обладают высоким христианским обликом и благочестием, которому могут позавидовать представители иностранных вероисповеданий. Важно вспомнить, что римский сотник, обратившийся к Христу, также являлся язычником, который уверовал во Христа, и это позволило ему обратиться к Спасителю с просьбой об исцелении его слуги [Лопухин, 1911, 328]. В этом случае опять же очевидна сила веры, которая развенчивает внешний ошибочный образ язычника и делает воина истинным христианином, соблюдающим все заповеди Божьи и следующего добродетелям.
Поддерживать силу веры и смирение русских солдат помогало военное духовенство, осуществляя молитвы со своей паствой. Священников в этом деле не останавливали тяжелые и экстремальные боевые условия. В таких ситуациях полковые батюшки сами демонстрировали недюжинную силу веры, личным примером показывая военнослужащим бесстрашие и отвагу на поле боя. На страницах периодической печати времен Первой мировой войны можно обнаружить статьи о таких подвигах. Командующий дивизией генерал-майор Соколов сообщал в телеграмме протопресвитеру армии и флота следующее описание стойкости священника, совершающего молитвы перед солдатами и офицерами: «17 мая 1916 г., когда священник Грайворонско-го полка отец Иоаким Лещинский совершал молебствие, по просьбе нижних чинов, на паперти церкви с. Малнув о даровании государю императору победы, во время возглашения многолетия, неприятельская шрапнель ударила в угол церкви в 5 шагах от отца Лещинского, который со словами: „О, не бойтесь!“ провозгласил многолетие и докончил богослужение, о чем, как находившийся около отца Лещинского среди молящихся, долгом считаю засвидетельствовать» (Ласкеев, 1916, 351).
В данном подвиге отца Лещинского видится сильный и смиренный пример непоколебимой веры. Его слова успокоения, сказанные в адрес военнослужащих, представляются не как эффектная театральность, не как красивый жест внешнего значения, а как поразительное свидетельство несокрушимой силы духа, укрепляемой верой в Господа, в Его бесконечную милость и постоянную везде и всегда защиту. Военный священник Лещинский, подобно римскому сотнику, смиренно верил в покровительство Господа и продолжал вести богослужение, несмотря на смертельную угрозу. Это яркое свидетельство неусыпной бдительности в твердого стояния доброго пастыря на страже своих овец, готового в любой момент возникшей опасности своей надеждой на Бога прийти на помощь слабому, забывая о себе и о своей безопасности. Римский сотник, прося Христа исцелить своего раба, также руководствовался своей верой и христианскими заповедями, не поступая так, как было принято в обществе того времени. Напомним, что слуга сотника считался бесправным рабом, которого при тяжелой болезни хозяин мог выбросить на улицу умирать. Однако сотник, чувствуя свою ответственность за ближнего, несмотря ни на что, попросил Христа исцелить своего раба.
На фронтах Первой мировой войны бывали случаи, когда сила веры и чувство ответственности за свою паству подвигало батюшек брать на себя инициативу командования и спасать от гибели нижние чины. Герой войны прапорщик М. Г. Сироткин вспоминал о молодом священнике — отце Турукаевском, приехавшем на войну добровольцем и находившемся перед вторжением немцев на западном фронте. В своем письме М. Г. Сироткин так описывал подвиг военного священника: «Когда в местечке Р. разгорелся бой, отец Турукаевский явился туда. Мы были окружены немцами. Значительный отряд мог быть уничтожен, так как была значительная убыль в командном составе. Под шрапнельным и пулеметным огнем священник бросился и воскликнул: „У меня святой крест, идите за ним, за святой силой его!“ Солдаты бросились за священником. После я ему говорил: „Вы спасли людей, батюшка“. Он весь заволновался: „Не я, сила креста святая“» (Герой, 1916, 605).
Это был не единственный эпизод героического поведения военного священника. М. Г. Сироткин вспоминал тот день, когда последний раз видел отца Турукаевско-го в живых: «Весь день я пробыл в пулеметном блиндаже. Немцев мы не пустили, они успокоились, исчезли из нашего поля зрения. В 8 часов мой телефон перестал работать. Я послал его исправить, посланные не возвращались. Мы встревожились. В это время появился священник Турукаевский. „Вот я пришел к вам с Господним благословением'1. — „Батюшка, спуститесь вниз“. — „А вон кто-идет“, — сказал батюшка. Я поднялся и увидел при свете молодого месяца (было около 9 часов) немцев, заходящих в тыл. — „Батюшка, уйдите. Я открою пулеметный огонь, они будут отвечать, вы можете быть ранены“. — „Господи, да ведь мы одни“. Я оглянулся. Нас было шесть пулеметчиков и батюшка. Отец Афанасий вынул крест, мы поцеловались с батюшкой. Я обратился к батюшке, что приближаются немцы, что ему лучше уйти. — „Господь не оставит вас!“ Батюшка исчез. Огонь. Первая цепь немцев легла. Как мы вышли из этого, положения, я не помню, потому что я действовал в беспамятстве. Пули цеплялись за одежду. Меня оживляли слова: „Господь не оставит вас“» (Герой, 1916, 606).
В данном эпизоде героического поведения священника военного духовенства врезаются в память прежде всего его напутственные слова: «Господь не оставит вас». Так впоследствии и получилось, Господь не оставил тех пулеметчиков, которые самоотверженно отражали немецкую атаку. Также как и Христос не оставил умирать слугу римского сотника, исцелив его от смертельной болезни, так и отец Афанасий напутствовал своей пастве о том, что сила веры спасет их от смертельной опасности, аналогично как в свое время вера римского сотника спасла от смертельной болезни его слугу.
В заключение стоит отметить, что вдохновляемые смирением и силой веры военное духовенство и окормляемая им паства — военнослужащие Российской императорской армии, безусловно показали героизм и самоотверженность на фронтах Первой мировой войны. Воодушевленные полковыми батюшками солдаты и офицеры доблестно сражались с противником, демонстрируя при этом высокий моральный христианский облик, что часто отмечалось представителями вражеской стороны. Однако нерешенность внутренних проблем и кризис веры, который поразил значительную часть русского населения, привели к крушению монархии, а вместе с этим модели взаимодействия светских и духовных властей, которая обеспечивала высокий моральный дух солдат, отстаивающих интересы Отечества. Слом государственных устоев привел к упадку института военного духовенства, священнослужители которого, подобно римскому сотнику, заботились о своей пастве так же, как сотник о своем слуге.
Список литературы Смирение и сила веры в образе римского сотника в деятельной евангельской любви военного духовенства в войне (1914-1918 гг.)
- Благочестие (1916) - Благочестие русского солдата // Вестник военного и морского духовенства. Пг., 1916. № 19.
- Герой (1916) - Герой священник // Вестник военного и морского духовенства. Пг., 1916. № 19.
- Ласкеев (1916) - Ласкеев О. Пастырь на молитве // Вестник военного и морского духовенства. Пг., 1916. № 11- 12.
- Ливанский (1916) - Ливанский А. [Без названия] // Вестник военного и морского духовенства. Пг., 1916. № 10.
- Смирнов (1915) - Смирнов А. Русский солдат // Вестник военного и морского духовенства. Пг., 1915. № 1.
- Иероним Стридонский (1903) - Блаженный Иероним Стридонский. Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея. Киев, 1903. Ч. 16. 380 с.
- Иоанн Златоуст (1904) - Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. СПб., Издание СПбДА, 1904. Т. 10. Кн. 2. С. 935-940.
- Лопухин (1911) - Лопухин А. П. Толковая Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. СПб., 1911. Т. 8. 478 с.