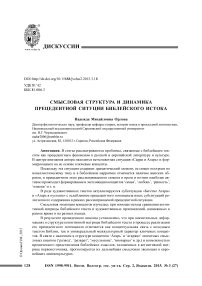Смысловая структура и динамика прецедентной ситуции библейского истока
Автор: Орлова Надежда Михайловна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 3 (27), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы, связанные с библейским текстом как прецедентным феноменом в русской и европейской литературе и культуре. В центре внимания автора находится ветхозаветная ситуация «Сарра и Агарь» и формирующиеся на ее основе ключевые концепты. Поскольку эта ситуация содержит драматический элемент, ее сюжет построен по новеллистическому типу и в библейском нарративе отмечается наличие женских образов, в прецедентном поле рассматриваемого сюжета в прозе и поэзии наиболее активно происходит формирование и экспликация концептов ‘семья', ‘любовь', ‘ревность', ‘измена' и т. п. В ряде художественных текстов актуализируются субситуации «Бегство Агари» и «Агарь в пустыне» с ослаблением прецедентного потенциала иных субситуаций религиозного содержания в рамках рассматриваемой прецедентной ситуации. Смысловая эволюция концептов изучалась при помощи метода сравнения когнитивной матрицы библейского текста и художественных произведений, написанных в разное время и на разных языках. В результате проведенного анализа установлено, что при значительных деформациях в структуре когнитивной матрицы библейского текста в процессе реализации его прецедентного потенциала отмечается как концептуальная связь с исходным текстом Библии, так и универсальный межкультурный характер ключевых концептов. В связи с наличием в структуре концептов ‘Агарь' и ‘агаряне' латентных смысловых квантов (‘развод', ‘разврат'; ‘мусульмане', ‘иноверцы' и др.) и возможностью иронического представления библейских смыслов, заложенных в когнитивной матрице первоисточника, прогнозируется их дальнейшая смысловая эволюция в европейских лингвокультурах.
Прецедентный текст, прецедентная ситуация, библейский текст, агарь, агаряне, художественный текст, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/14969873
IDR: 14969873 | УДК: 81'42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.3.18
Текст научной статьи Смысловая структура и динамика прецедентной ситуции библейского истока
DOI:
Среди разнообразных прецедентных феноменов библейский текст имеет особый статус, а концепты библейского истока играют огромную роль в формировании когнитивной картины мира разных народов.
Библейская прецедентная ситуация (ПС) «Сарра и Агарь» относится к ситуациям, содержащим драматический элемент. Сюжет построен по новеллистическому типу, подобно ситуациям «Руфь», «Лия и Рахиль» и др. [1, с. 277–278], поэтому сразу можно предположить, какие именно концепты будут формироваться на ее основе и какие предсказуемые изменения в структуре когнитивной матрицы и ключевых библейских концептов будут происходить. Для рассматриваемой библейской ситуации важнейшими являются концепты ‘всемогущество Бога’ (рождение Исаака – то, что выше человеческого естества), ‘неиспо-ведимость Божьего промысла’. В библейской «жестокости» есть смысл, который выше понимания земного человека; в изгнании и страданиях Агари прочитывается ее грядущее предназначение. Наконец прецедентные имена праотца множества народов Авраама, праматери Сарры, их сына Исаака формируют когнитивную линию ‘семья’ и соответствующий концепт. Ситуация содержит важнейшее условие для реализации прецедентного потенциала сюжетов данного типа – наличие в библейском нарративе женских образов. Варьирование когнитивной линии ‘семья’ – одной из важнейших в анализируемом прецедентном тексте – позволяет предположить порождение концептов ‘семья’, ‘любовь’, ‘женственность’, ‘ревность’, ‘измена’ и т. п.
Обращение к рассматриваемой прецедентной ситуации имеет давнюю традицию в богословии и религиозном красноречии (см., например, «Слово о законе и благодати» Митрополита Илариона), где закон Ветхого Завета связан с рабством (Агарь, рабыня), а благодать Нового Завета – со свободой (Сарра). Д. Щедровицкий подчеркивает глубокий религиозно-философский смысл сюжета. «Человек, целиком захваченный сиюминутной обидой, – пишет он, – может забыть о смысле и цели своей жизни, и именно это случилось с Агарью. <...> Агарь и ее сын умирали от жажды, а ведь колодец с водой был совсем рядом. Но их очи были закрыты! Этот колодец с живой водой находится внутри нас, а мы умираем от жажды» [3, с. 141, 185–186]. Особое внимание уделено Д. Щедровицким пророчествам о том, что от Измаила Бог «произведет великий народ» [3, с. 142].
При обращении к прецедентной ситуации в рамках художественного дискурса наблюдается постепенное искажение когнитивной матрицы библейского текста, динамическое варьирование ее смыслов. Так, у Якова Полонского («Агарь», 1855) можно отметить, с одной стороны, актуализацию одного из наиболее важных концептов библейского претекста (и Библии в целом) – Агарь-мать, праматерь мусульман; с другой – привнесение рассказа о ее жизни в доме Авраама и перенесенных там страданиях: . ..Ложе, где так много пролила я слез! «Пролитые слезы» – одно из первых в русской классике упоминаний об Агари как «плачущей», «рыдающей». Аллюзии на другую Мать – Богородицу – также традиционны и находятся в русле религиозной традиции Нового Завета: связь с религиозно-философским смыслом библейского претекста может оставаться достаточно прочной, поскольку последний содержит не только пророчество рождения Спасителя, но также упоминание о животворном источнике духовной силы («колодце»), на который указал Агари и ее сыну Ангел (см.: Мирра Лохвицкая «Плач Агари. Моему сыну Измаилу»).
Атрибуция Агари как «матери, изгнанной из дома отцом ее ребенка», оживляет в имени ключевого концепта различные смысловые кванты, связанные с общеязыковым концептом ‘покинутая женщина’. В этих случаях актуализируются субситуации «Бегство Агари» и «Агарь в пустыне» и происходит ослабление прецедентного потенциала иных субситуаций в рамках рассматриваемой ПС («Бесплодие Сарры» (Быт. 16, 1–2); «Окончательное заключение завета между Богом и Авра- амом, обрезание, в том числе Измаила» (Быт. 17); «Поведение Измаила на пиру» (Быт. 21, 9) – обращения к ним крайне редки). В сознании носителей многих языков закреплены ассоциативные ряды, связанные с плачем, страданием, одиночеством Агари:
Тоска, тоска звериная! Впервые жжет слеза Египетские, длинные, Пустынные глаза (София Парнок «Агарь»); Od słońca pożaru sczerniała mi głowa, A wkoło pustynia; do Ciebie, Jehowa, Podnoszę płaczący mój głos (Kornel Ujejski «Hagar na puszczy»).
Ср. также:
– Хитра ты, да ведь и я не промах <...> но раз, что кончим мы с Бодростиным и ты будешь моя жена, а Лариса будет моя невольница... моя рыдающая Агарь... а я тебя... в бараний рог согну!.. (Н. Лесков «На ножах»).
В приводимом ниже примере из стихотворения Габриэлы Мистраль «Терновник» (или «Боярышник», «El espino») в переводе Инны Лиснянской аллюзия на страдания Агари осуществлена за счет отсылки к другому прецедентному тексту Библии – Книге Иова, сближения в одном контексте двух известных прецедентных имен (Иова и Агари):
И – я терновник обняла с любовью ( так обняла бы Иова Агарь ): мы связаны не нежностью, а болью <...> (ср. cual si Agar abrazara a Job ).
Итак, плачущая Агарь страдает от того, что изгнана из дома отцом ее ребенка, хотя в религиозной картине мира (применительно к Агари – прежде всего в мусульманстве) эти слезы имеют иной смысл, как плач тех смертных, которые знают, что Бог в своей сущности недоступен. Дальнейшее варьирование ПС и генерирование новых смысловых квантов связывается с общеязыковыми концептополями ‘любовь’, ‘измена’, ‘ревность’. Очевидно, что подобное переструктурирование когнитивной матрицы библейской ПС в рамках художественного дискурса демонстрирует ее существенное варьирование, которое, как было отмечено, является предсказуемым. Обращение к рассматриваемой ситуации особенно характерно для поэзии. Агарь – востребованный любовной лирикой символ покинутой, отвергнутой женщины, Измаил – брошенное отцом дитя:
...И кто в сутулости отмеченной,
В кудрях, где тишина и гарь, Узнает только что ушедшую От дремы теплую Агарь <...> Как стянут узел губ отринутых!
Как бьется сеть упругих жил!
В руках какой обидой выношен Жестковолосый Измаил! (Илья Эренбург);
Так Агарь в своей пустыне
Шепчет Измаилу:
«Позабыл отец твой милый
О прекрасном сыне!» (Марина Цветаева);
Nam szaty od skwaru opadły w kawałach,
I rzemień popękał na naszych sandałach,
I cierpi, i płacze mój syn .
Jam, Panie, kochała i była kochaną , Szczęśliwą – to słusznie, że jestem karaną, Lecz syn mój, Ismael – bez win (Kornel Ujejski).
Однако о том, что Агарь «любила», «была любима» и «счастлива», речь в библейском тексте вообще не идет и Измаил страдает не вполне безвинно ( bez win ), если вспомнить его поведение на пиру.
Привнесение новых смысловых квантов в структуру ПС и ее ключевого концепта отличается большим разнообразием, поскольку разнообразны человеческие отношения в рамках любовных треугольников; например, Сарра (= жена) целует Агарь (= соперницу) в стихотворении Светланы Кековой «Славят лето Господне...»:
Славят лето Господне крестьянин и царь, а луна в небесах как волшебный фонарь, он над домом качается, смотрит в окно, где уставшая Сарра целует Агарь <...> .
В рассказе И. Бунина «Натали» героиня (Гаша), внешне удивительно похожая на библейских женщин (...отец когда-то говорил: «Вот, верно, такая была Агарь»), – не законная супруга и не «госпожа», а «наложница» и «крестьянская сирота» (= рабыня, подобно Агари). Отсылка к рассматриваемой прецедентной ситуации эксплицирует концеп-тополе ‘трагическая любовь’. Агарь – юная (...вид она имела еще полудетский), черноволосая, с «темной тонкой кожей» и «глазами цвета сажи» – в когнитивной картине мира носителей русского языка всегда «брошенная возлюбленная»; сходство подчеркнуто созвучием имен (Гаша / Агафья – Агарь). Заме- тим, что для И. Бунина образы библейских героинь обладают огромной притягательной силой. Натали в прецедентном поле данной ПС приобретает черты как Сарры, так и Агари: она не законная, а «тайная» жена, погибающая в «преждевременных родах». Нельзя не отметить и обращения писателя к прецедентной ситуации «Лия и Рахиль». Герой стремится к счастью с «Рахилью» (Натали), но по крайней молодости и <...> удивительному стечению обстоятельств получает взамен, подобно Иакову, «Лию» (Соню). Кончина Натали повторяет трагическую смерть Рахили, умершей при рождении Вениамина. Однако по сравнению с библейскими претекстами кон-цептополе ‘смерть, гибель’ в рассказе Бунина эксплицировано значительно более отчетливо. Встреча с овдовевшей Натали (предлог был страшный, но законный) происходит на фоне отпевания, в сумраке и ладане этой страшной залы; наконец умирает и сама героиня. Судьба новорожденного неизвестна, но осиротел ее старший ребенок, подобно тому как Рахиль оставила после себя не только Вениамина, но и Иосифа. Вся концептосфера трагической любви служит убедительным доказательством динамических возможностей библейской прецедентности, бесконечного варьирования когнитивной матрицы библейских прецедентных ситуаций.
Реализация прецедентного потенциала библейской ситуации «Сарра и Агарь» путем вербализации концептополей ‘любовь’, ‘ревность’, ‘измена’ и т. п. в прозе может сочетаться с ее ироническим переосмыслением. Так, в «Старинных психопатах» Н. Лескова прецедентные отсылки эксплицируют поле ‘разврат’; на этом основана горькая ирония рассказчика:
Невероятная, примитивная простота этих отношений, напоминающая собою библейский рассказ о Сарре и Агари, становится еще невероятнее, если дать веру частностям, которые рассказывают о житье этих супругов.
Степан Иванович был какой-то чистый турок. По отношению к своим многообразным привязанностям он совмещал в себе все роды любви, от мимоходных неосторожностей до привязанностей к одалискам и к первой султанше.
Такого рода переосмысления, включающие различные оттенки комического, доволь- но часты в текстах европейской литературы (ср.: Дж. К. Джером «Как мы писали роман» / «Novel Notes»).
В качестве примера комического (трагикомического) обращения к ситуации «Сарра и Агарь» можно привести также фрагмент романа Эрве Базена «Анатомия одного развода» (в оригинале «Madame Ex»; перевод Ю. Жукова и Р. Измайловой), где имя ключевого концепта вовлечено в концептополе ‘развод’:
– Она очень энергична, – разъяснила Эмма. – После первого замужества у Агнессы осталась девочка. Потом она вышла замуж во второй раз: остался мальчик. Два развода. Отцы скрылись и не помогают. Но она устроилась неплохо, открыв посредническое агентство. И по ее же инициативе был создан клуб « Агарь »... в память Агари, рабыни Авраама, которую этот подлец изгнал в пустыню вместе с сыном Измаилом, когда Сарра родила ему Исаака.
Обо всех этих деталях из жизни древней Иудеи Алина, уроженка Анжу, думала со смущением <...> .
Следует еще раз подчеркнуть, что динамическое варьирование смысловой структуры ключевого концепта ‘Агарь’ во многом предопределено содержательными параметрами библейского претекста (рождение «внебрачного» ребенка, конфликт между наследниками по праву первородства и рождения в законном браке, изгнание Агари и т. д.).
Менее предсказуемым является актуализация в структуре концепта ‘Агарь’ смысловых квантов, связанных с происхождением от Агари «великого народа», развитие новых значений у номинанта концепта, появление новых словообразовательных связей. При этом явления, наблюдающиеся в языковой и когнитивной картине мира многих народов, во многом сходны.
Так, агаряне (иногда метонимически: Агарь) – «арабы, мусульмане» – производное, унаследованное из старославянского языка, активно употребляется в текстах религиозного содержания, в житийной литературе. Еще в начале прошлого века считалось, что это слово «ясное», не нуждающееся в особых толкованиях и параллелях. В художественном дискурсе и в русском языковом сознании – «иноверцы, мусульмане», наименование лиц по на- циональности, актуальное для данного периода развития социума – «арабы», «турки», «чеченцы» (М.В. Ломоносов «Ода ... на победу над Турками и Татарами и на взятие Хотина 1739 года»; А.П. Сумароков «Ода государыне императрице Екатерине Второй на взятие Хотина и покорение Молдавии» и др.).
В большинстве современных лексикографических источников для иллюстрации использования этого малоупотребительного слова в контексте приводится пример из «Живых мощей» И. Тургенева: А то вот еще мне сказывал один начетчик: была некая страна, и ту страну агаряне завоевали (БАС 1, с. 40; ССРЛЯ 1, с. 77).
Вовлечение прецедентного имени Агарь в концептополе ‘мусульманство’ широко представлено в творчестве И. Бунина. Так, стихотворение «Путеводные знаки» имеет эпиграфом цитату из Корана: Он ставит путеводные знаки . Ср.: Он расположил знаки на дорогах. Люди руководствуются также в пути звездами (Кор. 16: 15–16). Считается, что арабы ориентируются в пустыне по каменным глыбам или по грудам разбросанных камней. Текстообразующую функцию выполняют одновременно и отрывок из Корана, и отсылка к субситуации «Изгнание Агари»:
Путь по пескам от Газы до Арима
Бог оживил приметами, как встарь.
Привет вам, камни – четки пилигрима,
В пустыне ведшие Агарь!
Также:
И заунывно-равнодушно наигрывает на плакучей свирели мимо проходящий пастух <...> Совсем не о Соломоне напоминает этот потомок Измаила и Агари ! (И. Бунин «Иудея»).
В русском языке этноним агарянин относится к числу немногочисленных экспрессивных этнонимов, имеющих окраску «высокое», «книжное». Данное слово, представленное в словарях современного русского языка с пометами «стар., обл. и фолькл.» (БАС 1, с. 40), «устар.» (ССРЛЯ 1, с. 77), охотно используют авторы исторических романов (см., например, Д. Мережковский «Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи»; Валентин Иванов «Русь изначальная»; В. Пикуль «Фаворит»).
В украинском языке агарянин , агарянь-ский (также устаревшее) – «магометанский; турецкий» (УРС 1, с. 5): А в турецьку землю агарянську Без кормиг прибило (Тарас Шевченко «Невольник»).
Семантико-стилистические особенности номинанта концепта в болгарском языке заключаются в том, что слово (по вполне объяснимым причинам) имеет сниженную окраску «презрит.». «Турчин, нехристиянин» (РСБЕ 1, с. 5): Какви са тия турци? – Агарянци, синко, врагове божии (Иван Вазов «Под игото»).
В европейских языках номинант Агарь и производные имеют сходные значения. В словаре слов из сказок и мифов, впервые опубликованном в XIX в., E. Cobham Brewer определял его следующим образом: Hagarenes . « The Moors are so called, being the supposed descendants of Hagar, Abraham’s bondwoman » (BDPF, р. 311). В английском языке рассматриваемая лексема обычно употребляется в религиозных, а не в художественных контекстах. Вероятно, этим во многом объясняется то, что в данном словаре пример художественного использования слова hagarenes приведен из переводного текста ( San Diego <...> hath often been seen conquering <...> the Hagarene squadrons . Cervantes: Don Quixote ), ср. также в русском переводе Н. Любимова: <...> он сокрушал, попирал, уничтожал и истреблял полчища агарян .
Польское Hagryci также употребляется преимущественно в текстах религиозного содержания. Иными словами, в европейских языках рассмотренные номинанты эксплицируют кон-цептосферы ‘мусульмане’, ‘иноверцы’.
В связи с тем, что, несмотря на ограниченную употребительность русского агарянин , существует традиция использования его в художественных текстах, нет препятствий для дальнейшего вхождения его в язык беллетристики и публицистики.
В приведенных примерах обращение к прецедентному имени Агарь (точнее, к его производным) служит вербализации концептопо-ля ‘мусульманство’, как правило, противопоставленного в языковой и когнитивной картине ‘христианству’. Дальнейшая смысловая эволюция концепта в русском языковом сознании удивительным образом «коррелирует» с пророчеством, которое было дано Агари Ангелом по поводу судьбы Измаила: «жить будет он пред лицем всех братьев своих» (Быт. 16, 10–12). «Всех братьев» – означает не только христиан, но также (и в первую очередь!) иудеев, современных израильтян. Беллетристика последних лет содержит обращение к концепту ‘Агарь’ с актуализацией ранее латентных квантов смысла ‘изгнание матери-мусульманки матерью-иудейкой’, ‘вражда между детьми, рожденными этими матерями, и их потомками’ и т. п. При этом отсылки к прецедентной ситуации достаточно многочисленны, ср.: в повести Керен Климовски «Рада»:
Читаю в Интернете рассказ о двух старуxаx – еврейской и арабской – которые лежат в иерусалимской больнице во время шестидневной войны, и арабка говорит: «Эта земля так же принадлежит мне, как и тебе , мы ведь обе – дочери Авраама ». А еврейка отвечает: «Не заблуждайся, милочка, я – дочь хозяйки дома, а ты – дочь служанки ...» <...> И тут начинаю думать про истоки этой вражды, может, и в самом деле библейские, про Сару – увядающую женщину, которая мучается оттого, что не может зачать от любимого мужа, и в отчаянии предлагает ему в наложницы свою служанку Агарь <...>, но больно Саре , она ревнует <...> и не выдерживает Сара и велит Аврааму прогнать Агарь <...> вот откуда – соперничество, противоборство, ненависть <...> .
При значительных деформациях в структуре когнитивной матрицы библейского текста по сравнению с текстами художественных произведений, написанных на разных языках, наблюдается как концептуальная связь с исходным текстом Библии, так и универсальный межъязыковой характер ключевых концептов, которые в редуцированном виде содержат основные смыслы рассматриваемой библейской ситуации (подробнее об этом см.: [2]).
Ее неисчерпаемая емкость позволяет предположить наличие латентных смысловых квантов и наноквантов, которые могут актуализироваться в соответствии с художественными задачами писателя, потребностями говорящих на разных языках и социумов в целом (так, в современной публицистике многочисленны обращения к данной ситуации в дискуссиях о суррогатном материнстве).
В целом для беллетристики XX века всеохватным стало свободное обращение с библейскими ситуациями, наполнение библейских концептов новым смысловым содержанием в соответствии с авторскими идейно-эстетическими задачами.
Список литературы Смысловая структура и динамика прецедентной ситуции библейского истока
- Орлова, Н. М. Библейский текст как прецедентный феномен/Н. М. Орлова. -Саратов: Сарат. гос. соц.-эконом. ун-т, 2008. -350 с.
- Орлова, Н. М. Прецедентный потенциал Библейской ситуации/Н. М. Орлова//Ученые записки КГУ. Гуманитарные науки. -2009. -Т. 151, кн. 6. -С. 254-263.
- Щедровицкий, Д. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево/Д. Щедровицкий. -М.: Теревинф, 2003. -1088 с.
- БАС -Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. Т. 1. -М.: Изд-во АН СССР, 1950. -767 с.
- РСБЕ -Речник на съвременни български книжовен език. В 4 т. Том първи. Свезка 1. -София: Българската академия на науките, 1955. -160 с.
- ССРЛЯ -Словарь современного русского литературного языка. В 20 т. Т. 1. -М.: Русский язык, 1991. -864 с.
- УРС -Украинско-русский словарь. В 4 т. Т. 1. -Киев: Изд-во АН УССР, 1953. -506 с.
- ВDPF -Brewer, E. C. Brewer 's Dictionary of Phrase and Fable/E. C. Brewer. -N. Y.: Harper & Row, 1989. -1220 p.