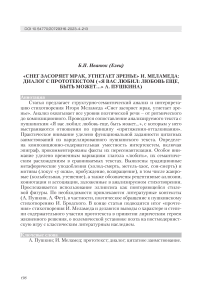«Снег засоряет мрак, угнетает зренье» И. Меламеда: диалог с прототекстом («Я Вас любил: любовь еще, быть может...» А. Пушкина)
Автор: Иванюк Б.П.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья предлагает структурно-семантический анализ и интерпретацию стихотворения Игоря Меламеда «Снег засоряет мрак, угнетает зренье». Анализ охватывает все уровни поэтической речи - от ритмического до композиционного. Проводится сопоставление анализируемого текста с пушкинским «Я вас любил: любовь еще, быть может.», с которым у него выстраиваются отношения по принципу «притяжения-отталкивания». Практическое внимание уделено функциональной заданности цитатных заимствований из парцеллированного пушкинского текста. Определена композиционно-содержательная уместность интертекстем, включая эпиграф, прокомментированы факты их пересемантизации. Особое внимание уделено временным вариациям глагола «любить», их семантическим расхождениям в сравниваемых текстах. Выявлены традиционные метафорические уподобления (холод-смерть, метель-хаос, сон-смерть) и мотивы (локус «у окна», пробуждение, возвращение), в том числе жанровые (колыбельная, утешение), а также обозначены рецептивные аллюзии, коннотации и ассоциации, заложенные в анализируемом стихотворении. Прослеживается использование эллипсиса как повторяющейся стилевой фигуры. По необходимости привлекаются литературные контексты (А. Пушкин, А. Фет), в частности, поэтическое обращение к пушкинскому стихотворению И. Бродского. В конце статьи подводится итог «прочтения» стихотворения И. Меламеда и делаются выводы о характере и степени содержательного участия прототекста в принятии лирическим героем жизненного решения, о полемической установке поэта на постмодернистскую игру с классическим литературным наследием.
А. пушкин, и. меламед, прототекст, диалог, цитатное заимствование
Короткий адрес: https://sciup.org/149144353
IDR: 149144353 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-213
Текст научной статьи «Снег засоряет мрак, угнетает зренье» И. Меламеда: диалог с прототекстом («Я Вас любил: любовь еще, быть может...» А. Пушкина)
Памяти Игоря Меламеда
В национальной поэтической культуре пушкинское стихотворение «Я вас любил: любовь еще, быть может…» приобрело статус прототекста. В Приложении к статье «Интертекстуальное потомство “Я вас любил...” Пушкина» А.К. Жолковский размещает «родственные» пушкинскому стихотворению тексты [Жолковский 2005, 259–293], завершая список 6 сонетом из цикла «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» И. Бродского. Этот сонет тщательно проанализирован в статье «“Я вас любил…” Бродского» [Жолковский 2005, 198—214].
Иосиф Бродский
Я вас любил. Любовь еще (возможно, что просто боль) сверлит мои мозги. Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. И далее: виски: в который вдарить? Портила не дрожь, но задумчивость. Черт! Все не по-людски! Я вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими — но не даст! Он, будучи на многое горазд, не сотворит — по Пармениду — дважды сей жар в крови, ширококостный хруст, чтоб пломбы в пасти плавились от жажды коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст! 1974 [Бродский 1992, 442]
Ученый задается вопросом: «сводится ли суть 6-го сонета к виртуозному пародированию оригинала на всех уровнях или же Бродский вносит в него что-то свое и тем самым апроприирует его?» [Жолковский 2005, 201]. И в ходе аналитического прочтения текста дается несколько дополняющих друг друга ответов: «Шестой из “Двадцати сонетов к Марии Стюарт” Иосифа Бродского – вызывающая перелицовка пушкинского “оригинала”» [Жолковский 2005, 198] (буквальный намек на травестирование – Б.И. ), он «специально посвящен систематическому обнажению поэтики “Я вас любил... ”» [Жолковский 2005, 199] (один из атрибутивных признаков пародирования – Б.И. ), но при этом уточняет, что «бесцеремонная перекройка оригинала не нацелена на пародию ради пародии, а представляет собой крайнее, но закономерное развитие пушкинских принципов» [Жолковский 2005, 207], и что «за пародийной оболочкой 6-го сонета вырисовывается структура типичного стихотворения Бродского» [Жолковский 2005, 206], и наконец, «написанное поверх одной из святынь русской классики [техника палимпсеста — Б.И. ] “Я вас любил...” Бродского имеет богатую интертекстуальную подоплеку…» [Жолковский 2005, 208]. Интегрированный ответ Жолковского можно парафразировать следующим образом: сонет Бродского – это пушкинское «Я вас любил…», переработанное в модусе сниженного осовременивания.
Действительно, стихотворение Бродского разворачивается как тривиальное переживание любовных руин в форме «руинного» сонета – со-нетоида, к тому же, с черновой правкой. Уже в самом начале происходит анаграмматическая редукция слова «любовь» рифмующимся с ним словом «боль», совершенно чуждым пушкинскому чувству в «Я вас любил…». Эта боль приводит к «потешной» попытке самоубийства, в котором просматривается бурлескная аллюзия на Вертера и Гамлета («выбор между висками, осложняющий самоубийство, иронически напоминает о гамлетовском “быть или не быть”» [Платт 2004]). В монолог персонажа вкраплен чужой материал — помимо пушкинских цитат, языковые клише и поэтизмы: «все разлетелось к черту на куски», «боль сверлит мои мозги», «все не по людски», «жар в крови» (перифраз любовной страсти – один из явно устаревших в стилистике ХХ в., но традиционный для русской классики: «В крови горит огонь желанья…», «И сердце вновь горит и любит…» из «На холмах Грузии…» А. Пушкина, «Возжегся огнь любви в душе моей…» и др. в «Письме Вертера к Шарлоте» А. Мерзлякова, «Когда горит в твоей груди…» Н. Некрасова, «Огонь, пылающий в крови моей…» Ф. Сологуба). Все эти факты свидетельствуют о профанном, вызывающем авторскую иронию, переживании лирического персонажа Бродского. Само же стихотворение является репрезентативным образцом обыгрывания поэтической классики, ставшей рудиментарной для постмодернистского сознания. И в этом плане диалог с прототекстом, основанный на отталкивании от него, в целом обнажает антитезу культурных эпох – пушкинской и современной.
По сути, эта антитеза определяет художественную аксиологию Игоря Меламеда, для которого «пушкинская благодатная эстетика» [Меламед 1998, 176] является критерием для различения дарованного свыше («божественный глагол») поэтического совершенства от поэтического самовыражения, характерного для «безблагодатной поэзии» [Меламед 1998, 192], в том числе и «Бродского, для которого “голос Музы” неизменно означал “диктат языка”» [Меламед 1998, 192], хотя «Высшую зрелость язык обретает только в совершенном произведении» [Меламед 1998, 221]. Вполне симптоматичным в этом плане является антитеза двух эпиграфов, предпосланных фрагменту «Ересь о языке» из статьи «Совершенство и самовыражение»: «Потому что искусство поэзии требует слов…» Бродского и «Пока не требует Поэта / К священной жертве Аполлон…» Пушкина. (Тем не менее исследователи отмечают влияние Бродского в первом сборнике Меламеда «Бессоница» [Иванова 2015]).
У Меламеда нет прямого отклика на 6 сонет Бродского. Но есть собственное обращение к «Я вас люблю…» Пушкина – стихотворение «Снег засоряет мрак, угнетает зренье...», написанное позднее сонета Бродского и не прочитанное литературоведами. Как замечает А.А. Семина, «поэзия Игоря Сунеровича Меламеда (1961–2014) сегодня почти не исследована» [Семина 2019]. Объяснением этому может служить следующее суждение: «лирика Игоря Меламеда поражает прежде всего своей невозможностью. Его стихи не поддаются расхожим схемам филологического и критического анализа» [Иванова 2010, 69].
Соглашаясь с «ртутным» характером поэтической мысли Меламеда, мы в данной статье предлагаем целостный (формосодержательный) анализ названного стихотворения с установкой на интерпретацию авторского диалога с пушкинским прототекстом.
Игорь Меламед
***
Я Вас любил…
Пушкин
-
1.1.1 Снег засоряет мрак, угнетает зренье.
-
1.1.2 Явь убивает сон и окурки множит.
-
1.2. 3 Как упоительно это его сомненье, 1.2.4 это его смиренье: еще быть может …
-
2.1.5 Спи же, дитя мое, — не совсем угасла.
-
2.1.6 Только совсем замерзла и так ей плохо…
-
2.2.7 Яви не хватит ночи, лампаде – масла,
-
2.2.8 сердцу – тепла, пересохшей гортани – вдоха,
-
3.1.9 чтобы я вас – продолжить, и комом к горлу
-
3.1.10 что-то подступит тяжко, немилосердно…
-
3.2.11 Видно, не нужно время тому глаголу, 3.2.12 если не повторить нам его посмертно.
-
4.1.13 Если метель такая – не то что бесы –
-
4.1.14 даже и ангел взвоет: темно и снежно.
-
4.2.15 Только и хочешь выжить, и то лишь, если
-
4.2.16 будет совсем безмолвно и безнадежно … 1987 [Меламед 2010, 80]
-
Допустимой миметической основой стихотворения является традиционный локус «у окна» — не названный, опосредованно обозначенный начальными периодами первой и последней строфы, образующими композиционный повтор («Снег засоряет мрак, угнетает зренье. / Явь убивает сон и окурки множит. <_> Если метель такая - не то что бесы - / даже и ангел взвоет: темно и снежно»).
Этот локус вызывает в памяти стих «А нынче… посмотри в окно…» из «Зимнего утра» Пушкина [Пушкин 1968, 109—110]. Сопоставив стихотворения, отметим две антитезы: заоконная ночная реальность у Меламеда («Снег засоряет мрак, угнетает зренье») и утренняя – у Пушкина («Под голубыми небесами / Великолепными коврами, / Блестя на солнце, снег лежит…»), адресованный призыв у Меламеда («Спи же, дитя мое…») и – у Пушкина («Пора, красавица, проснись…»). Аллюзия на «Зимнее утро» усугубляет «непушкинское» настроение Меламеда, которого Е. Иванова назвала «поэтом катастрофического сознания» и авторское «я» которого «абсолютно идентично образу лирического героя» [Иванова 2015]. По мнению Д. Бака, «универсальными топологиями» поэзии Меламеда являются «бессонница в морозную ночь, снегопад, боль одиночества, оставленности, теплое объятье родного человека на мировом холоде, которое обречено на умирание» [Бак 2015, 11]. Перефразируя высказывание Л. Шестова о Кьеркегоре («он мыслил, чтобы жить, а не жил, чтобы мыслить») [Шестов 1992], можно сказать, что есть поэты, которые живут, чтобы творить, а есть поэты, которые творят, чтобы жить. На наш взгляд, Меламед относится ко вторым, а Пушкин – к первым («Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» из «Элегии. Безумных лет угасшее веселье…») [Пушкин 1968, 154]. Тем значимей диалог Меламеда с Пушкиным, диалог, который по определению основан на единстве притяжения и отталкивания, что в полной мере реализовалось в стихотворении Меламеда, основным литературным объектом рефлексии которого является пушкинский текст «Я вас любил…».
Александр Пушкин
Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренне, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим. 1830 [Пушкин 1968, 111]
Пушкинское стихотворение написано 5-стопным ямбом – популярным, по мнению М.Л. Гаспарова в романтической поэзии и нередким в любовных элегиях, в частности, лицейского периода Пушкина («Любовь одна – веселье жизни хладной…» и др.) [Гаспаров 1984, 116]. Используемый же Меламедом расшатанный дактило-хореический дольник с его системой внутристиховых пауз создает ретардацию стихотворной речи, явно ощутимую в сопоставлении с цельными, без ритмических перебоев, пушкинскими стихами. Речевая замедленность усиливается однотипной, а именно, женской клаузулой в сравнении с учитываемым Пушкиным правилом альтернанса, т.е. межстрофным и внутристрофным чередованием мужских и женских клаузул. Иначе говоря, пушкинский текст отличается синхронностью речи и смысла, и в этом плане его выраженная «простота» восприятия обладает признаком художественного совершенства. Как и отмеченный Меламедом другой признак этого стихотворения: «Но безыскусность поэзии Иванова, особенно в “Посмертном дневнике”, — уже не пушкинская (“Я вас любил…”), это – безыскусность после “искусства”» [Меламед 1998, 194].
Цельный характер пушкинского стихотворения обеспечивается и его композицией. Три его части соединены лейтмотивной анафорой «Я вас любил…» в компактное восьмистишие. Не случайно стихотворение номинируется в жанрологии как поэтическая миниатюра [Русская стихотворная миниатюра: хрестоматия 2005, 39].
Меламедовский же текст дискретный. Он складывается из относительно самостоятельных в границах строф стихотворных периодов с примыкающей – по характеру – смысловой связью между ними. Такое ритмическое «квантование» текста воспроизводит прерывный темп поэтической рефлексии, который совместно с описанной речевой ретардацией обусловливает затрудненность стихотворного высказывания и его восприятия. Первичным объяснением этому является то, что в отличие от пережитого Пушкиным чувство Меламеда переживаемое.
По эпиграфической подсказке предметом лирической рефлексии анализируемого стихотворения является любовь. В сравнении с неоднократным варьированием этого слова у Пушкина (5 раз), здесь референтное ему чувство избегает называния во всех ожидаемых, отмеченных пушкинскими цитатами, стихотворных местах, демонстрируя тем самым эффект ми-нус-приема. И если Пушкин пользуется «готовым», обработанным риторической традицией, словом в его устоявшемся жизненном значении, то стихотворение Меламеда основано на соотнесении личного переживания с пушкинским словочувством «любовь».
Обратимся к первому катрену. Он состоит из двух периодов. Первый охватывает два начальных стиха, объединенных, как было сказано выше, локусом «у окна». Изображение заоконной реальности минимизировано первым стихом. В нем существительное «снег» в роли зевгмы объединяет следующие за ним словосочетания («засоряет мрак, угнетает зренье») и уравнивает их семантическим сходством, которое закрепляется однограмматической (глагольной) и внутренней рифмовкой и синтаксическим параллелизмом. Эта конструкция оформляет значение «снега» как субъекта происходящего за окном. Во втором стихе существительное «явь» в роли опять же зевгмы возглавляет хиазм двух словосочетаний («убивает сон» и «окурки множит»). Глаголы «убивает» и «множит» a priori отличаются соответствующими семами «убывает – прибывает». Однако слово «явь» приводит содержания двух словосочетаний к общему семантическому знаменателю. Аналогично первому стиху синтаксическая конструкция второго оформляет значение «яви» как субъекта происходящего, но уже по эту сторону окна. Совместное содержание 1-го и 2-го стихов, отграниченных друг от друга пунктуационной точкой, образует «двоемирие». Обе реальности – заоконная и предоконная, выражены первоначальными частями речи – существительными и глаголами, которые придают «двоеми-рию» онтологическое значение.
Третье полустишие («Явь убивает сон») образует с первым («Снег засоряет мрак») вертикальный синтаксический параллелизм, устанавливающий семантическое равенство между, с одной стороны, объектными «мраком» и «сном», легко фразируемые в «мрачный сон», и субъектными «снегом» и «явью», с другой. Сходство деструктивных субъектов подчеркнуто восходящей градацией рифмующихся глаголов «засоряет», «угнетает», «убивает». Она сопровождает зримое пробуждение поэта от «мрачного сна» к нежеланной яви, окончательное возвращение в которую фиксируется метонимическим перифразом психологического самочув- ствия – прозаической деталью «окурки множит», воспринимаемой к тому же умолчанной заявкой на собственно размышления, конкретные и развернутые в экзистенциальном модусе первого периода.
Но второй период нарушает инерцию ожидания возгласом восхищения «как упоительно» (антоним уныния), произнесенным для себя и выражающим контрастное в сравнении с предыдущим настроение лирического героя, вызванное обращением к стихотворению «Я вас любил…». Его автор обозначен цитатной метонимией «еще быть может» и местоимением «его», и это уклончивое упоминание поэта придает отношению Меламеда к Пушкину характер личной близости.
В речевой организации периода также, как и предыдущего, участвует зевгма. В ней ключевое слово «упоительно» объединяет фигурой синтаксического параллелизма межстиховой рифменный подхват («это его сомненье, / это его смиренье»), тем самым придавая двум включенным в него существительным сходство по модальности при их лексическом несходстве. Эти существительные, отсутствующие у Пушкина, являются смысловой выжимкой пушкинского текста, свидетельствующей о его эмпатическом знании. Причем, если лексическое значение первого слова «сомненье» непосредственно соответствует содержанию пушкинской цитаты «еще быть может», то значение второго – «смиренье», несмотря на его предикативную привязку к этой цитате, конкретизируется другой цитатой «безмолвно и безнадежно», но уже в последнем периоде стихотворения, «на выходе». Наречия «безмолвно и безнадежно» локализуют чувство смирения и в прототексте, хотя оно как выражение авторской модальности соответствует всему пушкинскому стихотворению – не изложенной истории чувства, а адресованного бывшей возлюбленной прощания.
Откликом на слово «сомненье» является 1-й стих второй строфы. В «колыбельном» обращении («спи же, дитя мое») к спящей или усыпляемой возлюбленной используется несколько инверсированный пушкинский текст «не совсем угасла» с новым для него жанровым значением утешения.
Следующий же стих «Только совсем замерзла и так ей плохо…» при мотивной (любовь) общности с предыдущим, отгороженным точкой, оппонирует его содержанию и речевой стилистике. Признание себе в охладелом чувстве («совсем замерзла») скрывается за утешением, усыпляющим возлюбленную чужими «теплыми» словами («не совсем угасла»). Но основная коллизия определяется в отличие от пушкинского стихотворения не межличностными отношениями лирического героя и возлюбленной, а его отношением к персонифицированной, а именно, самоотчуждаемой любви. Именно эта коллизия и является причиной душевного разлада, который опредмечивает депрессивное настроение лирического героя, выраженное в первом, экспозиционном, периоде стихотворения (первая строфа). Разлад остается открытым, что фиксируется речевым обрывом. Но в сочувствии к «любви» («и так ей плохо…») кроется залог ее спасения, поиск которого осуществляется в последующем тексте. Содержание 7–12 стихов разворачивается с установкой на отправную фразу пушкинского стихотворения — «Я вас любил». Подход к оборванной цитате «я вас» в начале третьей строфы охватывает второй период второй строфы («Яви не хватит ночи, лампаде – масла, / сердцу – тепла, пересохшей гортани – вдоха, / чтобы»). Для него, как и для некоторых ранее, характерна структурная экономия: перечисление организованных параллелизмом синтагм, объединенных зевгматическим глаголом «не хватит», эллиптированным во всех последующих полустишиях, но имеющим ключевое значение. Своим отрицанием глагол разводит коррелирующие левый и правый компоненты синтагм-полустиший («Яви» – «ночи», «лампаде – масла, / сердцу – тепла», «гортани – вдоха»). Последовательность синтагм имитирует едва намеченный алгоритм речевого поступка – от замысла к произнесению. Однако каждая из его фаз может не осуществиться: первая – без созревшего во внутреннем («ночном») времени побуждения к поступку («яви не хватит ночи», перекликающееся по смыслу с первым периодом первой строфы), вторая – без веры в возможность поступка («лампаде – масла»), третья – без душевного ресурса («сердцу – тепла») и четвертая – без решимости («гортани – вдоха»). Метафорическим предикатом словосочетания «сердцу – тепла» воспринимается предыдущее – «лампаде – масла», а их cоположение отсылает к молитвенным стихам А. Фета «Ave Maria — лампада тиха, / В сердце готовы четыре стиха («Ave Maria») [Фет 1959, 249].
Содержание несовершённого поступка заключено в оборванной пушкинской фразе « я вас » с эллиптированным глаголом «любил», подсказанным «ремарочным » — «продолжить». К невыговоренному примыкает описание эмоционального переживания, состоящее из фразеологизма («комом к горлу») с синтаксически уподобленным ему неопределенным местоимением «что-то». Однако сходные по значению наречия «тяжко и немилосердно» определяют его содержание – мучительное чувство вины перед возлюбленной за уходящую любовь, в чем заключается отличие от пушкинского лирического героя, обращение которого к возлюбленной призвано, возможно, вызвать у нее запоздалое сожаление, тем самым – и чувство вины.
Перед тем, как перейти ко второму периоду этой строфы, обратимся к наблюдению Жолковского: «В первой строфе [пушкинского стихотворения – Б.И.] налицо три временные плана, обеспечивающие постепенность перехода от “страсти” к “сдержанности”: прошлое (любил), настоящее (угасла не совсем), будущее (пусть... не тревожит). Половина строфы отведена под две первые стадии, образующие вместе “историю любви”, половина – под третью, “программу на будущее”» [Жолковский 2005, 8]. А теперь обратимся к тексту Меламеда, ко второму периоду третьей строфы, отделенному от первого речевым обрывом («Видно, не нужно время тому глаголу, / если не повторить нам его посмертно»). Мысль, заключенная в нем, структурирована сложноподчиненным предложением с придаточным условия. В главном предложении (1-й стих этого периода) отказ «тому глаголу» (любил) во временном признаке означает условный перевод его в форму инфинитива «любить», измеряемого «вечностью». Второй же стих этого периода «Если не повторить нам его посмертно» переводит глагол «любил» в посмертное будущее. Таким образом, во временном рас- кладе Меламеда любовь дается в живом настоящем («не совсем угасла»), в живом, но не наступившем прошлом («чтобы я вас [любил]»), в посмертном будущем («повторить нам его посмертно») и в вечности («не нужно время тому глаголу»). При сопоставлении текстов двух поэтов очевидно, что у Пушкина три грамматических времени охватывают всю жизненную трансспективу любви, а у Меламеда любовь в живом настоящем, не ушедшая в живое прошлое, лишена живого будущего. Возможная для нее перспектива намечена в четвертой строфе.
А пока заметим, что первые две временн ы е презентации чувства у Меламеда опосредованы произнесенными (« не совсем ») и оборванными (« я вас <...> [любил]») пушкинскими словами, а третья-четвертая - уклончивым авторским текстом с ключевым словом «посмертно». Это слово вместе с другим — «повторить» возвращает к стихам «Яви не хватит <_> продолжить», и если глагол «любил» в прошлом времени не может быть произнесенным в явленной жизни (речевой не-поступок), то возможен в посмертной. Таким образом, этот глагол повторяет пережитое чувство как его стихотворное бессмертие. Эта мысль охватывает местоимение «нам», подразумевающим, помимо лирического героя , и Пушкина, привлеченного эпиграфической цитатой, содержащей этот глагол. Поддержано Меламедом и пушкинское живое будущее любви в четвертой строфе, но уже в собственном содержательном решении.
Слово «посмертно», находясь на границе строф, относится не только к предыдущей, но и к последующей, что подкреплено анафорическим подхватом «если». Слово «посмертно» визуализируется в первом периоде четвертой строфы («если метель такая – не то что бесы – / даже ангел взвоет: темно и снежно»): уравненные стихией мифические существа во мраке метельной круговерти воспринимаются пограничными – между жизнью и смертью – персонажами (ср.: «Бесы кружат с новой силой, / дразнят черною могилой» из стихотворения Меламеда «Над увядшим вертоградом…» [Меламед 2015, 14]). Обе цитаты отсылают к пушкинским «Бесам» и «Зимнему вечеру» как к мнемоническому контексту. При этом просматриваются межтекстовые пересечения, в частности, с параллельными уподоблениями олицетворенной вьюги – «То как зверь, она завоет, / То заплачет, как дитя» из «Зимнего вечера» [Пушкин 1967, 316]. Например, «то заплачет, как дитя» воспринимается допустимым дополнением к обращению «Спи же, дитя мое…»; неожиданное «ангел взвоет» — и правдоподобное «То, как зверь, она завоет» [Пушкин 1967, 316]. Такова реминис-центная поддержка диахронического повтора жизненных обстоятельств, выраженных метафорой вьюги. Но следует заметить, что из двух пушкинских стихотворений Меламед ориентируется на «Зимний вечер», хотя в «Бесах» есть аналогичные фразы, к примеру, «вьюга плачет» [Пушкин 1968, 151] или о бесах, которые, как известно из мифологии, могут превращаться в зверей – «Визгом жалобным и воем» [Пушкин 1968, 153]. Не случайно слово «бесы» у Меламеда «отодвинуто» в синтаксической конструкции, тем самым переключается внимание на слово «ангел» («не то, что бесы, даже ангел взвоет»). Образованный трансформацией пушкин- ских стихов оксюморон «ангел взвоет» выражает несовместимость двух ментальных вариантов жизненного выбора – смирения и бунта, в анализируемом стихотворении – выбора, обусловленного пограничной – между жизнью и смертью – коллизией, в которой оказался лирический герой.
Этот первый период четвертой строфы образует с началом стихотворения кольцевую композицию: выход из зимнего мрака и уход в него. Метафорическое сближение метели и смертного хаоса, их семантическая взаимозаменяемость, позволяют прочесть начальные стихи стихотворения следующим образом: вынужденное пробуждение лирического героя от сна как пробуждение от смерти (сон и смерть, как известно, относятся к мифологическим уподоблениям), а этот период («если метель…») как возвращение в смерть. Пробуждение от смерти к яви вызывает у лирического героя осознание прижизненного умирания любви, а возвращение из яви в смерть – ее возможного бессмертного продолжения. При редуцированном обобщении можно сформулировать эту латентную мысль так: жизнь обрекает любовь на умирание, а смерть – гарантирует ей вечную сохранность. Таков промежуточный вывод о любви и смерти в стихотворении Меламеда. Новое содержание их отношений раскрывается во втором периоде последней строфы.
В нем глагол «любить» также эллиптирован, в подсказанном же цитатой пушкинском тексте («Я вас любил безмолвно, безнадежно») он в категории прошлого времени. В контексте же анализируемого периода это глагольное время неприемлемо, глагол может быть только в форме вневременн о го инфинитива. В этом можно убедиться при условии его вставки в текст: «Только и хочешь выжить, и то лишь, если / [любить] безмолвно и безнадежно…».
Допустимая правота этого редакторского своеволия, поддержанная пушкинской цитатой и предшествующим отсутствием слов со значением «любовь», объяснима семантической принадлежностью глагола «любить» к мотиву жизни, намеченному словом «выжить», в отличие от глагола «любил» — к мотиву смерти (см. комментарий ко второму периоду третьей строфы). Мало того, инфинитив «любить» имплицирован в подтексте в двух временн ы х ипостасях – вечности (см. опять же комментарий ко второму периоду третьей строфы) и пожизненном настоящем – в стихе «Только и хочешь выжить, и то лишь, если / [любить] безмолвно и безнадежно…», и в этом плане совмещение двух времен – вечности и настоящего – определяет желанную судьбу референтного глаголу чувства лирического героя. Характер же этого чувства определяется примыкающими к глаголу «любить» заимствованными наречиями «безмолвно и безнадежно ».
В отличие от пушкинского стиха, передающего чувство в мнемонической модальности («Я вас любил…»), здесь оно воспринимается исходным, не осложненным ни сомнением в нем, ни его умиранием, т.е. как желанное и длящееся. В нем – залог vita nova лирического героя. Кроме того, пушкинские наречия в контексте следующего за ними стиха «то робостью, то ревностью томим» приобретают амбивалентные значения, одно из которых отвечает понятию смирения. У Меламеда же наречия в контексте стиха «[любить] безмолвно и безнадежно» имплицируют одно лишь смирение, названное в первой строфе и поддержанное словом «ангел». Принятие смиренной, т.е. «пушкинской», любви преодолевает смерть и является условием постстихотворной, открытой многоточием, жизни – в этом, на наш взгляд, заключается катарсический итог размышлений лирического героя. И в этом смысле можно утверждать, что пушкинское стихотворение «Я вас любил…» оказало на Меламеда сотериологическое воздействие.
Произведем смысловую выжимку из аналитического прочтения стихотворения Меламеда. В контексте экзистенциального – между жизнью и смертью – самочувствия лирического героя его рефлексивное диагностирование наличной любви выявляет два временн ы х варианта умирающего в окружающем хаосе жизненной «метели» чувства: первая – любовь, завершенная в «посмертном» прошлом лирического героя, вторая – любовь обновленная, обусловливающая его будущую жизнь.
Оба этих варианта – как отвергаемый, так и принимаемый лирическим героем, опосредованы «выбранными местами» из пушкинского текста, межстрофная парцелляция которого играет роль композиционных скреп всего стихотворения. При этом прерывная последовательность вставочных цитат, повторяющая пушкинскую, определяется новой композиционно-содержательной уместностью. Адаптированные к переживанию лирического героя, цитаты, по сути, авторизуются в контексте стихотворного дискурса, но при этом сохраняют свой изначальный семантический «ореол». Двойственное положение заимствований разрешается модальным прочтением прототекста. Извлеченные из него интертекстемы сохраняют пушкинские значения – сомнения и смирения, последовательность которых, словесно номинированная в первой строфе, определяет сюжет принятия лирическим героем решения. В этом экзистенциальном востребовании жизненной семантики пушкинского текста и заключается актуальный для Меламеда диалог с его автором. В более широком контексте «жизнелитературы» (Г. Гачев) ориентацией на «пушкинскую» аксиологию Меламед как адепт «просвещенного консерватизма» [Кравцов 2023] вступает в полемику с постмодернистским (ироническим) переигрыванием классического наследия.
Список литературы «Снег засоряет мрак, угнетает зренье» И. Меламеда: диалог с прототекстом («Я Вас любил: любовь еще, быть может...» А. Пушкина)
- Бак Д.П. «Пожизненное детство». Поэзия и правда Игоря Меламеда // Меламед И.С. Арфа серафима. Стихотворения и переводы. М.: ОГИ, 2015. С. 5—26.
- Бродский И.А. Форма времени: в 2 т. Стихотворения, эссе, пьесы. Т.1: Стихотворения. М.: Литературно-издательское агентство «Эридан», 1992. 472 с.
- Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М.: Наука, 1984. 319 с.
- Жолковский А. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М.: РГГУ, 2005. 372 с.
- Иванова Е.А. Опыт преодоления боли. Игорь Меламед // Вопросы литературы. 2010. № 1. С. 69—83.
- Иванова Е. Поэт катастрофического сознания. Памяти Игоря Меламеда // Prosodia. 2015. № 3. URL: https://magazines.gorky.media/prosodia/2015/3/poet-katastroficheskogo-soznaniya.html (дата обращения 19.05.2023).
- Кравцов К. Уроки Игоря Меламеда // Лиterraтура. Электронный литературный журнал. 2023. № 206. URL: https://literratura.org/criticism/701-konstantin-kravcov-uroki-igorya-melameda.html (дата обращения 19.05.2023).
- Меламед И.С. Арфа серафима. Стихотворения и переводы. М.: ОГИ, 2015. 379 с.
- Меламед И.С. Отравленный источник // В черном раю. М.: Книжный сад, 1998. С. 137—135.
- Меламед И.С. Снег засоряет мрак, угнетает зренье // Воздаяние. М.: Вой-мега, 2010. 120 с.
- Меламед И.С. Совершенство и самовыражение // В черном раю. Стихотворения, переводы, статьи о русской поэзии. М.: Книжный сад, 1998. С. 146—227.
- Платт Дж.Б. Отвергнутые приглашения к каменным объятиям: Пушкин - Бродский - Жолковский // Новое литературное обозрение. 2004. № 3. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2004/3/otvergnutye-priglasheniya-k-kamennym-obyatiyam-pushkin-8212-brodskij-8212-zholkovskij.html (дата обращения 02.06.2023).
- Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 8 т. Т. II. Стихотворения 1819-1826. М.: Художественная литература, 1967. 398 с.
- Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 8 т. Т. III. Стихотворения 1827-1836. Сказки. М.: Художественная литература, 1968. 456 с.
- Русская стихотворная миниатюра. Хрестоматия / сост. А.Б. Есин, О.А. Па-лехова, С.Я. Долинина. М.: Флинта; Наука, 2005. 208 с.
- Сёмина А.А. Личность и творчество Георгия Иванова в рецепции Игоря Меламеда // Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка. 2019. Т. 78. № 5. С. 59—69.
- Фет А.А. Полное собрание стихотворений / вступ ст., подгот. текста и примеч. Б.Я. Бухштаба. Л.: Советский писатель, 1959. 899 с.
- Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. М.: Прогресс; Гно-зис, 1992. URL: https://www.livelib.ru/quote/542794-kirgegard-i-ekzistentsialnaya-filosofiya-lev-shestov (дата обращения 29.05.2023).