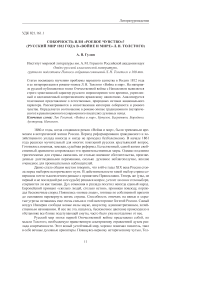Соборность или "роевое чувство"? (Русский мир 1812 года в "Войне и мире" Л. Н. Толстого)
Автор: Гулин Александр Вадимович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению проблемы народного единства в России 1812 года и ее интерпретации в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир». На материале русской публицистики эпохи Отечественной войны с Наполеоном выявляется строго христианский характер русского мировоззрения того времени, укрепленный и вдохновленный сопротивлением вражескому нашествию. Анализируется толстовское представление о естественных, природных истоках национального характера. Рассматриваются в сопоставлении категории соборности и роевого чувства. Определяется соотношение в романе-эпопее традиционного (исторического) и революционного (современного писателю) духовных начал.
Лев толстой, "война и мир", кутузов, багратион, бородино, аустерлиц, наполеон
Короткий адрес: https://sciup.org/146281271
IDR: 146281271 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Соборность или "роевое чувство"? (Русский мир 1812 года в "Войне и мире" Л. Н. Толстого)
1860-е годы, когда создавался роман «Война и мир», были тревожным временем в исторической жизни России. Период реформирования гражданского и хозяйственного уклада никогда и нигде не проходил безболезненно. В начале 1861 года решился мучительный для многих поколений русских крестьянский вопрос. Готовились военная, земская, судебная реформы. Естественный, самой жизни свойственный драматизм сопровождал эти правительственные меры. Однако подлинно трагическими для страны оказались не столько внешние обстоятельства, произведенные долгожданными переменами, сколько духовное неблагополучие, вполне очевидное для проницательных наблюдателей.
Давно стало общим местом говорить, что в 60-е годы XIX века Россия стояла перед выбором исторического пути. В действительности такой выбор страна совершила почти тысячелетием раньше с принятием Православия. Теперь же (увы, не первый и не последний раз в ее судьбе) решался вопрос, устоит ли она в этом выборе, сохранится ли как таковая. Дух сомнения и разлада посетил некогда единый народ. Европейский принцип «сколько людей, столько истин», проникая повсюду, порождал бесконечные споры. Появились «новые люди», готовые по собственной прихоти до основания перевернуть жизнь страны. Способность отвечать на явные и скрытые угрозы оставалась еще очень сильна в этой всесторонне богатой России. Самый воздух Империи сообщал новые силы науке, искусству, административным, хозяйственным начинаниям. И все же это, казалось, бесконечное цветение происходило в обстановке все ближе подступающей смуты, часто было уже неотделимо от нее.
Русский мир эпохи первой Отечественной войны представлял собой, по мысли Толстого, необходимую нравственную альтернативу отравленной духом разлада современности. Этот ясный устойчивый мир, хорошо понимал писатель, таил в себе вечные духовные ориентиры. Повинуясь верному историческому чутью, Тол- стой избрал в 1860-е годы предметом для своего творчества единственную в XIX веке эпоху неомраченного, основанного на действительной нравственной связи сплочения всех сословий, всех элементов общества. Уже в первом незавершенном романе Толстого о декабристах, который, по сути, открывал творческую историю «Войны и мира», явно намечался контраст между всенародным восторгом 1812 года и мелким либеральным волнением середины века.
Между тем на события пятидесятилетней давности писатель смотрел во многом под углом ценностей своего времени. Более того, позиция Толстого – мыслителя и художника, на поверхности противопоставленная духу мятежной поры, нередко оказывалась также своеобразным его выражением.
Нашествие армии Наполеона воспринималось русским обществом 1812 года не просто как нападение врага на родную землю и государство, но как невиданная агрессия против священных начал, положенных в основание России. Конфликт между верой и безбожием, перенесенный полвека спустя прямо на русскую почву, в ту эпоху предельно ясно явил себя в отражении внешней угрозы, причем вся нация, может быть, в последний раз по сегодняшний день, выступила на борьбу как единый духовный монолит. «Тут сражались, – по замечанию человека той эпохи, – с одной стороны: гордость, самонадеянность, коварство, злоба, ухищрение, алчность и вероломство; с другой же: Религия, любовь к Отечеству, верность к Монарху, человеколюбие, бескорыстие и справедливость. Се истинное ратоборство добродетели с пороком – Неба с адом!» [11, c. 3].
Перед лицом исключительной опасности русский мир пережил столь же исключительное очищение, укрепление своего православного ядра. Главный предмет покушения Наполеона оказался (иначе и быть не могло!) также и камнем преткновения для его прежде непобедимых полков. Россию 1812 года соединила («в одну душу», как замечал другой современник) Евангельская правда, почерпнутая из нее строго христианская нравственность, немыслимая без покаяния, осознания человеком грешной своей природы, твердого и сознательного обращения ко Христу, готовности жертвовать земными благами для жизни вечной. «Братия моя! – вскоре по окончании войны говорил архиепископ Московский Августин, – велики были искушения, которые правосудию Божию угодно было ниспослать на нас; но множество грехов наших несравненно превосходит оные. Может быть, зараза тех же беззаконий, тех же заблуждений, того же нечестия, в какие погрузились обуянные галлы, коснулась некоторых и из нас. Бог яко отец милосердый громом гнева Своего восхотел не поразить нас, а паче уврачевать, не погубить, но паче возбудить от пагубного усыпления. Мы очувствовались и из глубины души возопили: “Горе нам, яко согрешихом. <…>”. Услышан глас моления нашего – и с той минуты обновилась вера в сердцах наших, воспламенилась любовь к Богу, к ближнему, к Отечеству...» [1, с. 8–9].
Победа над самым грозным противником, поистине чудесное освобождение своей страны и Европы в глазах россиян того времени выглядели прежде всего торжеством русской веры, вытекающих из нее жизненных устоев. «…где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20), – сказано в Евангелии. Стремление к одному всеми признанному христианскому идеалу смирило неизбежные в любом обществе противоречия, подчинило частные устремления единой воле, сделало каждого из русских свободным и посильным участником одного великого дела. Оно сказалось и в «собирании» духовных возможностей одного человека, и в «собирании» всего общественного организма, в «собирании», наконец, внутреннего опыта, духовной энергии не только ныне живущих людей, но десятков поколений соотечественников, происходившем как одно нерасторжимое целое. «Да встретит он, – говорилось о Наполеоне в царском манифесте первых дней войны, – в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина» [3, с. 427]. 1812 год стал в исторической жизни нации временем подлинного торжества соборности.
На редкость единой в идейном отношении, лишенной полемики как таковой, оказалась литература тех лет, не только церковная, но и светская. Было бы неверным приписывать это обстоятельство усилиям государственной цензуры. Здесь говорило действительное самоощущение людей 1812 года. «Веруя единому Богу, служа единому Царю, любя одно Отечество, имея одну цель – такое единодушие и единомыслие составляет ваш щит и оружие противу всякого врага, храбрые россы! В таких только доспехах могли вы совершить то, что совершить не удалось ни одной нации!» [8, c. 9], – писал современник. «Возможно ли, – задавался риторическим вопросом другой автор, – покорить народ, который тверд в своей вере, который хранит ненарушимо святую нравственность и обычность славных своих предков, который соединен неразрывным союзом единомыслия и единодушия, внушаемых кроткими его законами?» [7, с. 29–30].
Подобные высказывания есть почти у каждого писателя той эпохи. Просветленное минувшей бедой христианское миросозерцание открывало современникам лишь непреложную правду о только что оконченной войне, путях мироздания, самих себе и своей Державе. Эта беспримесная, чистейшей пробы Истина светила так ярко, что многообразие жизненных форм, в которых она явилась, почти не интересовало современников. Любая попытка спустя годы найти причину русской победы в одних только человеческих усилиях и свойствах, отметая исповедание веры как «заблуждение» будто бы неразвитого сознания (а такие попытки, особенно в XX веке, делались постоянно), поневоле вела к подмене самого существа исторического события. Свидетельством правоты людей того времени служила, ни больше и ни меньше, сама их победа.
Отечественная война с Наполеоном, безусловно, понималась и Толстым, в отличие от многих современных ему и последующих историков, как борьба нравственная по своей природе. И все же тут имелась в виду нравственность, глубоко укорененная в личных религиозно-философских воззрениях писателя. «Идеал есть гармония, – заметил Толстой 3 марта 1863года. – Одно искусство чувствует это. И только то настоящее, которое берет себе девизом: нет в мире виноватых. Кто счастлив, тот прав!» [10, с. 540]. Его масштабная работа последующих лет стала всесторонним выражением этой позиции.
Великая правда 1812 года заявила о себе в картинах и образах «Войны и мира» как самая подлинная реальность национального бытия. Русские люди были тут всегда настоящими, живыми людьми, показанными с невиданной прежде силой. Под пером Толстого рождалось произведение исключительной почвенной правды и психологической новизны. Но за этой «цветущей почвой» писателю всегда открывалась как бы его собственная святыня. Евангельские, праведные черты в национальном характере всегда означали для него еще и нечто свое, толстовское. Толстой писал о жизни, словно никогда не знавшей грехопадения, жизни, которая сама, по его убеждению, таила в себе разрешение всех противоречий, дарила человеку вечное несомненное благо. «Чудны дела Твои, Господи!» – говорили на протяжении веков поколения христиан. И молитвенно повторяли: «Господи помилуй!». «Да здравствует весь свет! (Die ganze Welt hoch!)», – вслед за восторженным австрийцем восклицал однажды в романе Николай Ростов. Трудно было выразить точней сокровенную мысль писателя: «Нет в мире виноватых» (здесь и далее фрагменты романа
«Война и мир» воспроизводятся по изданию: Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 1978–1985. Т. 5–8).
Нашествие на Россию «двунадесяти языков», казалось Толстому, победила и отбросила исключительно почвенная жизнь: эмоционально богатая, не знающая никаких отвлеченных, расположенных за пределами непосредственного чувства обязательных начал. «Бесконечно малые элементы», из которых всегда складывается в истории ткань событий, выглядели в романе как бы единственно существующими. Все прочее становилось миражом, «помрачением цивилизации». Отечественная война тем самым выглядела как решительная война почвенного и надпочвенного, непринужденного и оформленного. Не только Россия и русский дух отвергали в «Войне и мире» чуждую вражескую силу; толстовская философия 1860-х годов побеждала тут все несогласные с ней жизненные установления. «Рассказы, описания того времени, – утверждал писатель, – все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. <…> Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени».
Совместить частную, эмоциональную правду и правду отвлеченную: государственную, державную – в рамках такой религиозно-философской позиции часто оказывалось невозможным. К примеру, Николай Ростов после своей молодецкой атаки в бою под Островно не видел никакой связи между этим «интуитивным» поступком и полученной им наградой. «Так только-то и есть всего, то, что называется геройством? – думал он. – И разве я это делал для отечества?».
Толстой не раз описывал или просто упоминал в «Войне и мире» православные богослужения. Он помнил, какую веру в подавляющем их числе исповедовали участники и очевидцы великой войны с Наполеоном. Два таких описания: служба в одном из храмов Москвы с молебном о спасении от вражеского нашествия (ее участницей стала Наташа Ростова) и бородинский молебен – отличались на страницах книги особенной теплотой. Психологическая правда того и другого эпизода была настолько проникновенной, что оба они, кажется, вполне отразили также и подлинный дух русской веры. Вместе с тем в каждой из этих картин прежде всего заявляла о себе толстовская философия непринужденной жизни. Черновые, не обработанные редакции этих описаний нередко получались у писателя гораздо более традиционными, близкими духу Православия. Но, вероятно, именно это обстоятельство в числе многих других и заставляло художника браться за переработку им написанного. На страницах «Войны и мира» с ее особенным религиозно-философским строем те прежние описания выглядели неорганичными, грозили нарушить исключительно прочное духовное и поэтическое единство произведения…
Молитва Наташи – слишком богатая и вместе с тем непростая сцена, чтобы анализировать ее потаенный строй в рамках короткой статьи. Но даже ограничивая себя одним, самым важным ее аспектом, нельзя не увидеть, что, изображая религиозные чувства героини, писатель, конечно, имел в виду свою толстовскую веру, которая, как полагал он до поры, не противоречит вере его отцов, а вполне безболезненно «включает» ее в себя.
Понять, какому Богу молилась Наташа, в действительности было не так просто. По всем приметам Христу-Спасителю. Но почти неуловимо Священное Имя, произносимое на Литургии, забывалось во «внутренней» молитве Наташи. «Окончив ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес: – “Сами себя и весь живот наш Христу-Богу (здесь и далее выделено мной. – А. Г.) преда- дим”. “Сами себя Богу предадим, – повторила в своей душе Наташа. – Боже мой, предаю себя Твоей воле, – думала она. – Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня!” – с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков».
Вероятно, под этой неведомой силой Наташа имела в виду Самого Спасителя. Но Христос никогда не учил идущих Ему вослед «избавляться от себя». Самоотречение вовсе не означало с точки зрения христианской отказ от личности, предполагало свободное, по собственной воле, подчинение себя (со всеми данными человеку особенностями) воле Всевышнего. Соответственно этому человеческая личность понималась и понимается Православием как великое достояние жизни земной и жизни грядущей: человек, согласно Библейскому откровению, был создан именно по образу и подобию лично существующего Бога-Творца. Зато вполне безличным выглядел «естественный», дорогой Толстому «всеобщий импульс мироздания». Полное слияние с ним действительно означало отказ от всего личного. Разве не этот абсолют – источник всякого чувства, по-своему ограничивал внутренний круг Наташиной молитвы, разве не к нему в конечном итоге и обращалась героиня? И разве не он имелся в виду, когда Наташа, вслед за словами Божественной Литургии «Миром Господу помолимся», думала: «Миром, – все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью – будем молиться…»?
Эти мысли в общем контексте описания предполагали все же не столько единство во Христе, сколько слияние в безличной, проникающей живую плоть, «субстанции любви». Неслучайно молитва Наташи во многом носила хорошо различимый в ее описании, в общем не свойственный духу Православия, характер чувствительного порыва. Неслучайно и то, что Толстой употребил в этом описании «предметное» слово «мiръ» (земля, общество, мироздание), в отличие от родственного ему, но все же иного, духовно-нравственного по смыслу слова «миръ» (лад, согласие, тишина, отсутствие злобы, войны), которое используется в богослужебных текстах.
Крестный ход и молебен при Бородине, которые со стороны, не участвуя в них, наблюдал Пьер Безухов, стали одной из наиболее ярких и выразительных картин, предшествующих у Толстого описанию великой битвы. Разумеется, обойти вниманием столь значительное событие в истории главного сражения 1812 года для писателя было невозможно.
Толстой вложил в эту сцену, кажется, всю силу своего писательского дарования. Русский народ по всем видимым приметам предстал в ней именно таким, каков он есть. «…Все внимание его, – говорил Толстой о своем герое, – было поглощено серьезным выражением лиц в этой толпе солдат и ополченцев, однообразно жадно смотревших на икону. Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) начинали лениво и привычно петь: “Спаси от бед рабы твоя, Богородице”, и священник и дьякон подхватывали: “Яко вси по Бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству”, – на всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности наступающей минуты, которое он видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро; и чаще опускались головы, встряхивались волоса и слышались вздохи и удары крестов по грудям».
Все было точно, все было неподражаемо прекрасно. Но какая же сила соединила в романе участников молитвы? Очевидно, что это была эмоциональная, «неразумная» сторона их душевной жизни, неизменно сопряженная на страницах романа с выразительной внешней пластикой. Эти вздохи, эти удары крестов по грудям, эти жадные взгляды выражали именно такую полноту естественных переживаний. Тут изображался некий природный импульс, равно проникающий души всех, кто способен искренне переживать происходящее. Сам коленопреклоненный Кутузов, сами солдаты и офицеры, мужики-ополченцы несли в себе единое, напряженное в канун решающего дня, и тем более сокровенное, начало непринужденного бытия. Многие, почти незаметные на первый взгляд черты описания создавали именно такое впечатление.
Все морально значимое, по мнению Толстого, совершалось в мире непреднамеренно и по-земному просто. Отсюда множество вполне «приземленных» подробностей, которые, в духе толстовской веры 1860-х годов, должны были оттенить элементарный смысл происходящего. Отсюда и тот «опрощенный», если не сказать «простецкий» взгляд на событие, который все же угадывался в описании Бородинского молебна. Вот так же Толстой, изображая говение Наташи, однажды упомянул икону Божией Матери, «вделанную в зад левого клироса». Рассматривая такие определения в свете будущего духовного движения писателя, нельзя не заметить в них как бы первоначального зерна кощунственных описаний из романа «Воскресение», созданного Толстым два десятилетия спустя. Впрочем, художественные картины «Войны и мира» пока еще в равной степени принадлежали как русской революции, так и русской традиции. Можно даже сказать, что революционное начало (что нередко бывает в искусстве) на первых порах только ярче высвечивало начало традиционное.
В рассказе о бородинском молебне особенно обращали на себя внимание уставшие и вследствие этого «лениво» поющие, словно равнодушные ко всему, дьячки. Может быть, само упоминание о двадцатой за день службе (учитывая продолжительность православного богослужения, даже сокращенного по условиям военной необходимости, это едва ли было так на самом деле), понадобилось в романе лишь для того, чтобы «оправдать» столь важную в смысле поэтики «Войны и мира» естественную «простоту» события. Соответственно и Чудотворная икона Смоленской Богородицы в романе запечатлела дорогое Толстому абсолютное начало «чувствительного бытия», которое, независимо от внешнего повода – молебна, стянуло к себе бесчисленно малые элементы живой жизни, само отражаясь в каждом из таких «нервных окончаний».
Единство русских людей перед лицом наполеоновской угрозы лишь на первый взгляд напоминало в «Войне и мире» столь очевидное для современников событий соборное единение 1812 года. Вместо сплочения в духе Христовом (а другой соборности нет и быть не может!) тут очевидно проявилось иное, дорогое писателю единство: слияние «атомов жизни» в некоем общем для них «духе естественного бытия».
На выезде из Можайска в канун Бородинского дня Безухов услышал слова простого солдата: «Всем народом навалиться хотят…». Возможно, поводом для их появления в романе стало известное Толстому высказывание П. И. Багратиона из его письма к А. А. Аракчееву: «…Надо спешить непременно, готовить людей, по крайней мере сто тысяч, с тем, что, если он <неприятель> приблизится к столице, всем народом на него навалиться – или побить, или у стен Отечества лечь!» [2, с. 504]. Но все же такое народное сплочение Толстой понимал по-своему.
Образ пчелиного роя, стянутого к одному центру всепроникающим неразумным жизненным инстинктом, не случайно оказался в «Войне и мире» столь «говорящим», значительным. Особенно ярко он заявил о себе в тех эпизодах, где было показано оставление Москвы ее жителями. Изображая покинутый город, Толстой прямо сравнивал Москву с «обезматочевшим ульем». Точно так же возвращение москвичей на родное пепелище казалось ему подсказанным самой природой обживанием старой муравейной кочки. Вместо соборности в романе заявлял о себе даже не коллективизм, а некое стихийное «роевое чувство». Такая природная связь выглядела, с точки зрения писателя, наивысшим из возможных проявлением нравственного бытия. Соответственно «мысль народная», национальная получала на страницах «Войны и мира» в том числе и такое, естественное, свое истолкование.
* * *
Понятие «народ» всегда предполагает многие качества, отсутствие хотя бы одного из которых делает его неполным, не до конца состоятельным. Единство кровное, вероисповедное, государственное – важнейшие из них. Это ясно понимали современники войны 1812 года. Незадолго до Бородинского сражения М. И. Кутузов, обращаясь к жителям захваченной врагом Смоленской губернии, дал одну из наиболее точных формул русского единства. «Вы исторгнуты из жилищ ваших, – писал он, – но верою и верностию твердые сердца ваши связаны с нами священнейшими, крепчайшими узами единоверия, родства и единого племени. Враг мог разрушить стены ваши, обратить в развалины и пепел имущества, наложить на вас тяжкие оковы, но не мог и не возможет победить сердец ваших. Таковы россияне! Царство российское издревле было единая душа и единое тело. Оно всегда подвизалось волею своих Самодержцев и пламенною любовию к ним и Отечеству своему. Да подкрепит Всевышний многотерпение ваше, любезнейшие и достойнейшие соотечественники!» [4, с. 39]. Иерархия национальных ценностей выстраивалась русским полководцем безупречно. Эти слова звучали как настоящий манифест соборности. Душевные и материальные силы русской земли соединялись, по мысли главнокомандующего, племенным родством, приверженностью одной вере, одному царю – помазаннику Божию, мистическому центру общенационального притяжения.
С точки зрения Толстого, нравственное единство народа обеспечивала сама жизнь, естественная и непроизвольная. Народное чувство в романе представляло собой некий безошибочный моральный инстинкт, заключенный в недрах «неразумного», подсознательного бытия. По мысли писателя, он не нуждался ни в каком руководстве, ни в каком «цивилизованном» оформлении. Он требовал не Царя, не Императора, а вождя по-домашнему понятного, умеющего слушать «пульс» непринужденной действительности, чуждого любым «отвлеченным» идеалам… Едва ли Кутузов на страницах «Войны и мира» мог от чистого сердца обнародовать приведенное выше послание к смолянам.
Русский полководец в «Войне и мире» полнее других чувствовал разлитое во множестве «клеточек жизни» абсолютное начало, это, как ни смотри, «личное безличное», найденное Толстым еще в молодые годы. Это хорошо понял Андрей Болконский, внезапно успокоенный после встречи с Кутузовым в Цареве Займище: «У него ничего не будет своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет <…> но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли, – это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое».
Своеобразная логика «неделания», невмешательства в течение жизни составила главный стержень поведения Кутузова, каким увидел его Толстой. Великая историческая роль русского главнокомандующего на страницах «Войны и мира» в том и состояла, что он позволил событиям развиваться непринужденно, только на- блюдая за тем, чтобы вмешательство самолюбия, тщеславия, эгоизма (порожденных цивилизацией страстей) не нарушало стихийно нравственный порядок вещей. Так он вел себя на Бородинском поле, когда всем существом своим, не отдавая никаких приказов, охранял неподвластный разуму «дух войска». Так поступал и позднее, пресекая попытки догнать и уничтожить бегущие силы Наполеона, потому что видел за этим одно лишь заносчивое стремление «обуздать жизнь».
Бородинское сражение 26 августа (7 сентября) 1812 года стало одним из тех событий национальной жизни, когда русский дух являет себя с полной, исчерпывающей силой и чистотой. Столь же ясными, законченными были и сокровенные устремления армии Наполеона. Столкновение в бою вечно враждебных духовных начал оказалось предельно откровенным. Эта последняя определенность, желание каждой из сторон во что бы то ни стало утвердить свои ценности сделали битву исключительно жестокой. Суть и смысл русской судьбы, глубинные пути человеческой истории открылись в ней почти воочию зримо.
Десятки описаний, оставленных россиянами – участниками сражения, передавали единое, только раз в жизни испытанное каждым из них состояние неземного восторга, прикосновения к Небесной Правде. И.П. Липранди, вспоминая себя, своих товарищей накануне Бородинского дня, так описывал общее настроение, укрепленное только что состоявшимся молебном: «По окончании священной процессии все мечтания, все страсти потухли, всем сделалось легче; все перестали почитать себя земными, отбросили мирские заботы и стали как отшельники, готовые к бою на смерть» [5, с. IV]. В свою очередь артиллерийский офицер Н. Любенков рассказывал, что на поле боя «собственная жизнь сделалась бременем, тот радовался, кто ее сбрасывал – он погибал за Государя, за Россию, за родных» [6, с. 21]. Судя по многочисленным рассказам русских участников битвы, день неслыханных ужасов и потрясений оказался для каждого из них, уцелевших, моментом подлинного откровения о своей нетленной, ангельской природе, восставшей на защиту не только земного, но разлитого в земном Вечного Отечества.
Не только упорство разгоревшейся борьбы, по любым меркам совершенно исключительное, но сила духовной правды, столь ярко осветившей русские войска, заставляла уцелевших участников сражения говорить о событии единственном, равных которому не найти в новой истории. Многие из них признавали, что человеческий язык бессилен выразить все пережитое ими на высотах у деревни Семеновской, Курганной батарее, вблизи простого русского села Бородино.
На страницах «Войны и мира» великая битва русской истории тоже стала центральным событием. Уверенность художника в том, что день Бородина представлял собой прежде всего нравственный день, вероятно, только укрепилась после его поездки на поле сражения осенью 1867 года. Острее и глубже большинства современников Толстой ощутил от начала до конца проникающий битву, различимый в каждом ее действии характер духовного противоборства. Молебен перед образом Богородицы в русском лагере и поклонение живописному портрету мальчика, сына Наполеона, в лагере французском; скромность и простота у одних, бахвальство и напыщенность у других; твердая готовность стоять на своем со стороны русских, бешеный агрессивный напор со стороны их неприятеля – все это передавалось Толстым неподражаемо точно, восходило к неким определяющим началам в характере каждой из противоборствующих сторон.
В отличие от Аустерлицкой баталии, он говорил теперь о «великой брани», где русские сражались на своей земле, за свои ценности. И он показал истинно русский бой – простой, бесхитростный и жертвенный.
Русский солдат, начиная от рассказа о полковом смотре под Браунау, кончая знаменитой «массовой» сценой встречи Кутузова с войсками под Красным, всегда изображался в «Войне и мире» с непостижимой выразительностью, в сотнях разнообразных лиц. Но солдаты при Бородине в этом отношении, кажется, не имеют себе равных.
Вся возможная психологическая правда о русском человеке в бою за родную землю: о его стойкости и упорстве, внутренней собранности «в отпор происходящему», его отчаянном веселье в минуту опасности – прозвучала в потрясающей картине «семейного кружка» артиллеристов на батарее Раевского, куда оказался заброшен наивный Пьер Безухов. Удивительная душевная прочность отличала и других солдат – из полка Андрея Болконского, безропотно избиваемых в резерве ядрами и гранатами на страшном овсяном поле, готовых полечь до единого на своем «самом незначительном» месте. Лучшие, возвышенные черты народного характера оказались тут запечатленными раз и навсегда. Дар Толстого «захватывать» воображение читателя достигал при этом просто исполинской силы. Весь ужас ожидания в резерве «своего часа», вся горячность и боевой азарт занятых воинским делом артиллеристов переживались и переживаются каждым из нас будто испытанные наяву.
Оставаясь верным духу русской истории, Толстой показал не столько сражение, сколько «великое стояние» русских, вооруженных самой истиной, подобно далеким своим предкам заступивших дорогу наглому, бесстрашному врагу. Гибель артиллеристов на захваченной врагом батарее, «бесполезная» трата людей полком князя Андрея, смертельное ранение самого героя были выражением глубинной сути русского сопротивления Наполеону. Это любовь, добро, правда в полном согласии со своей светлой природой отторгали ненависть, разрушение, хаос. Мир противостоял войне. Но то были все же толстовский мир и толстовская война.
Бородинское сражение виделось писателю своего рода последним торжеством начал непринужденного бытия. Он рисовал битву, где ходом дел руководит не воля главнокомандующего, а сама жизнь, сотканная из тысяч случайностей. Сила естественной, природной жизни, как пчел, как растревоженных муравьев, соединила в «Войне и мире» русских людей независимо от их сословия, возраста, звания, соединила тем прочнее, чем более жестоким было оскорбление, нанесенное французами этой жизни.
Современники войны 1812 года часто называли духовный подъем русского народа «воспламенением сынов Отечества». У Толстого встречался похожий образ. Он упоминал некий скрытый огонь, отблески которого там и тут вспыхивали на лицах участников битвы. На страницах «Войны и мира» это был огонь земного, раздраженного и вместе торжественного чувства, разлитый в переживаниях каждого из русских. Вечером накануне сражения Андрей Болконский на вопрос Безухова о том, от чего будет зависеть победа, отвечал: «От того чувства, которое есть во мне, в нем, – он указал на Тимохина, – в каждом солдате». Этот земной огонь, этот жар, подирающий по коже, пронизывал при Бородине всю живую плоть русской армии. Солдаты, офицеры, генералы поступали лишь по его велению, обретая каждый в себе физически ощутимую «святыню жизни». Это она двигала в романе тысячами отдельных импульсов, определяя характер сражения и его исход. Русское войско представало как единый, чуждый всему формальному «сгусток естественного бытия».
Споры о том, кому принадлежала победа на Бородинском поле, не затихают и по сегодняшний день. Толстой был одним из первых, кто в потомстве определил результат сражения как безусловную победу русской армии. Завершая описание битвы, он сказал об этом в самых торжественных словах, ныне ставших едва ли не хрестоматийными. «Не та победа, – говорил писатель, – которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным».
Вслед за Толстым сегодня мы верим, знаем: это так и есть, Бородино – нравственная победа наших предков, наша победа. И все же величественный итог Бородинского дня подводился писателем совершенно в духе его собственных философских воззрений. Какую нравственность имел в виду Толстой? Ни один участник сражения, пожалуй, не посмел бы назвать знамя куском материи на палке. За знамя отдавали жизнь. То была самая честная, праведная смерть. Но Толстой определенно хотел противопоставить моральную победу русских этим, как утверждал он, кускам материи, воплощенному в них нравственному началу. Иначе рассуждать, по всей вероятности, он не мог.
Андрей Болконский под Аустерлицем, устремляясь со знаменем в атаку, почувствовал: знамя на ветру тяжелое, оно клонит человека к земле. Очевидно, он мог бы ощутить фактуру ткани, из которой пошито знамя, его цвет. Больше оно ни о чем не говорило естественному чувству, во всем принадлежало к разряду пустых «отвлеченностей». Болконский убедился в этом всего миг спустя после своего ау-стерлицкого ранения. «Как тихо, спокойно и торжественно, – думал он при виде плывущих по небу облаков, – совсем не так, как я бежал <…> не так, как мы бежали, кричали и дрались…». «А, знамена!», – рассеянно, как о чем-то постороннем, скажет Кутузов в «Войне и мире» после сражения под Красным, когда его внимание обратят на захваченные трофеи. Говоря о нравственной победе русской армии при Бородине, Толстой, как прежде, имел в виду торжество дорогого ему, как полагал он, безгрешного, земного бытия.
* * *
В 1859 году будущий создатель «Войны и мира» на страницах «исповедального» письма, адресованного его двоюродной тетке А. А. Толстой, рассказывал о времени становления (это было на Кавказе) своих религиозных воззрений: «Из 2 лет умственной работы я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что надо жить для другого, для того чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бога, ни Искупителя, ни таинств, ничего; а искал всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучался, и ничего не желал кроме истины» [9, c. 292].
У Толстого в 1860-е годы определенно было свое представление о Высшем начале бытия. Все остальное, о чем говорил он прежде, в основном сохраняло свою силу и теперь. «Ни Искупителя, ни таинств, ничего». Христос на страницах романа нигде и не назывался Богом. «Почему сын?» – пронеслось однажды в сознании умирающего, погруженного в мысли о вечном Андрея Болконского. Платон Каратаев умилялся собственному рассказу о безвинно пострадавшем купце, «прозревший» Безухов думал о том, как трудно и вместе блаженно «любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страдания». Но ни один, ни другой, кажется, не имели в виду искупительный, ведущий дорогой Спасителя крестный путь. Было «сходство с християнской религией». За ним же таилась иная, глубоко личная пантеистическая вера, которую писатель, по его словам, «узнал так, как никто не знает».
Казалось бы, принцип «сколько людей, столько истин», так широко и повсеместно проникающий в русскую жизнь 1860-х годов, нашел и в «Войне и мире» определенное свое выражение. Противопоставляя новый роман смутным веяниям эпохи, гениальный писатель вместе с тем отдал по-своему дань тем же самым веяниям. Грандиозная книга о былом не только раскрыла с необычайной силой (в этом смысле никто из писателей к Толстому даже не приблизился) земные основания русской победы в 1812 году. Она утвердила уже готовый состояться в национальном мире переворот во взглядах на отеческое прошлое, по-своему отразила историческое мироощущение новой поры. Но разве лишь поэтому оказалась она так дорога и понятна новым поколениям русских?
Каждый, кто прикоснулся хотя бы однажды к этой поэтической вселенной, испытал на себе ее неотразимое воздействие. Так же, как нельзя представить без «Войны и мира» нашу литературу, невозможно представить без нее и русское патриотическое сознание. Однажды в романе Толстой говорил о Кутузове: «А главное, – думал князь Андрей, – почему веришь ему, – это то, что он русский…». Эти слова можно отнести к самому создателю великой книги. Кого оставит равнодушным эта земная, подлинная Россия с ее живыми, многообразными лицами, ее праздниками и бедами, ее открытым сердцем и твердой решимостью защитить себя в бою? Где еще мы найдем столь живой, ощутимый, столь законченный и в то же время таинственный образ давно ушедшей эпохи?
Все это между тем не снимает очень важного вопроса, возникающего в связи с «Войной и миром»: где проходит почти неуловимая грань, за которой кончается прочтение Толстого «по законам им самим над собой поставленным и признанным» и начинается уже произвольное «дополнение» его романа историческими и духовными реалиями прошлого? Судя по всему, Толстой вовсе не предполагал в «Войне и мире» возможность иной духовной, исторической, культурной перспективы, кроме той, которую избрал он сам. В положение «дописывающего» ставит читателей романа, будь то школьник, литературовед, историк, никто иной, как его создатель. И мы обречены уже от себя привносить в эти ослепительные картины, вкладывать в эту неподражаемую правду чувства также сознательную правду русской истории. Военную, государственную, духовную…
Список литературы Соборность или "роевое чувство"? (Русский мир 1812 года в "Войне и мире" Л. Н. Толстого)
- Августин, епископ Дмитровсий, викарий Московский. Слово по случаю заключения вожделенного и вечнославного мира победоносной России с Франциею и восстановления свободы и спокойствия во всей Европе, произнесенное 1814 года июня 21 дня. М.: Синодальная тип., 1814. 14 с.
- Багратион П. И. Письмо к А. А. Аракчееву. 7(19) августа 1812 г.//Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 г.: В 3 т. Т. 2. СПб.: Тип. Торгового дома С. Струговщика, Г. Похитонова, Н. Водова и Ко, 1859. С. 504.
- Высочайший манифест от 6 (18) июля 1812 г.//Шишков А. С. Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова: В 2 т. Т. 1. Berlin: B. Behr’s Buchhandlung, 1870. С. 426-427.
- Кутузов М. И. Обращение к жителям Смоленской губернии от 20 августа 1812 года//Листовки Отечественной войны 1812 года: Сб. материалов. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. С. 39.
- Липранди И. П. Пятидесятилетие Бородинской битвы, или Кому и в какой степени принадлежит честь этого дня? М.: Университетская тип. (Катков и Ко), 1867. 314 с.
- Любенков Н. Рассказ артиллериста о деле Бородинском. СПб.: Тип. Э. Праца и Ко, 1837. 76 с.
- Покровский Ф. Г. Философ горы Алаунской, или Мысли на Дону о вступлении в русские пределы Наполеона и совершенном его поражении. М.: Унив. тип., 1813. 40 с.
- Потт Г. Е. Послание к русским по случаю высокого торжества в 1813 году в честь двестилетнего царствования на Всероссийском престоле Всеавгустейшего Дома Романовых, сочиненное инженер-капитаном фон Поттом. СПб.: Сенатская тип., 1813. 32 с.
- Толстой Л. Н. Полное собр. соч.: В 90 т. Т. 60. М.: Худож. лит., 1949. 558 с.
- Толстой Л. Н. Полное собр. соч.: В 90 т. Т. 48. М.: Худож. лит., 1952. 567 с.
- Штейнгель В. И. Записки касательно составления и самого похода Санкт-Петербургского ополчения против врагов Отечества в 1812 и 1813 годах: Ч. 1. СПб.: Тип. В. Плавильщикова, 1814. 262 с.