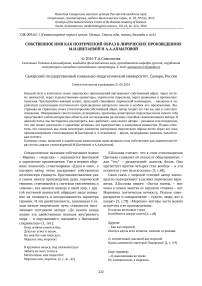Собственное имя как поэтический образ в лирических произведениях М. И. Цветаевой и А. А. Ахматовой
Автор: Самсонова Татьяна Александровна
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.
Бесплатный доступ
Каждый поэт в комплексе своих лирических произведений выстраивает собственный образ: через систему ценностей, через художественные ориентиры, лирические параллели, через сравнения и противопоставления. Чрезвычайно важный аспект, присущий специфике лирической номинации, - введение в лирическую композицию поэтического произведения авторского имени в особом его преломлении. Выстраивая на страницах своих стихотворений собственный образ, автор творит его так же, как и само произведение. Обыгрывание своего имени, псевдонима, прозвища, новаторское переосмысление самого себя представляет собой интересную область для исследования различных способов самономинации автора. В данной статье мы постарались рассмотреть, как «работает» имя самого автора - реальное или псевдоним, что оно может рассказать о характере человека, его пристрастиях и жизненных ценностях. Нужно отметить, что коснулись мы лишь некоторых моментов построения лирического образа поэта через его имя; проанализировали стихотворения М.Цветаевой и А.Ахматовой - ярких, незаурядных женщин, талантливых поэтесс.
Введение в лирическую композицию произведения, имя собственное как лирический образ поэта, анализ стихотворений м.цветаевой и а.ахматовой
Короткий адрес: https://sciup.org/148102438
IDR: 148102438 | УДК: 009:82-1
Текст научной статьи Собственное имя как поэтический образ в лирических произведениях М. И. Цветаевой и А. А. Ахматовой
Семантическое значение собственного имени – Марина – «морская» – переносится Цветаевой в лирические произведения. Уже в первом сборнике появилось стихотворение «Душа и имя», в котором автор четко раскрывает собственную поэтическую сущность. Противопоставление уже в самом начале произведения души лирической героини, стремящейся к светским увеселениям и «имени», как некоего выхода в иной мир, с другой системой ценностей, обращает наше внимание на сложность и неоднозначность характера героини. И эта двойственность, заявленная в самом начале творческого пути, становится неизменным спутником автора: «До самого конца жизни эта двойственная позиция внутреннего мира – и окружающего, внешнего у Цветаевой сохранилась» [1, 161]:
Пока огнями смеется бал,
Душа не уснет в покое.
Но имя бог мне иное дал:
Морское оно, морское!
В круженье вальса, под нежный вздох
Забыть не могу тоски я.
Мечты иные мне подал бог:
Морские они, морские. [2, с. 41–42]
Л.Козлова считает, что в этом стихотворении Цветаева «заявляет об отказе от общепринятых – для “тех” – развлечений: вальсов, балов. Она протестует против четырех стен вообще – и это останется у нее на всю жизнь» [3, с.48].
Свою связь с морской стихией автор многократно подчеркивает в разных лирических вариантах. Л.Козлова пишет: «Экстаз волны, – миг пены в самом завитке ее верхнего стояния – вот Маринина поэтическая вечность. Полное самораскрытие и самораспятие – судите, люди, вот я какая!» [3, с.79]. «Морские» мотивы часто можно встретить в ее произведениях:
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен [2, с.48]
Другое:
– Как вал морской,
Ношусь вдоль всех штыков, мешков и граждан.
О, вспененный, высокий вал морской
Вдоль каменной советской Поварской! [2, с.119]
Еще пример:
…Я, выношенная во чреве
Не материнском, а морском.
Когда-нибудь, морские струи
Выглядывая с корабля,
Ты скажешь: «Я любил – морскую!
Морская канула в моря!» [2, с.127]
Вообще морские мотивы можно считать одной из «визитных карточек» лирических произведений, связанных с именем и творчеством М.Цветаевой. Так, говоря о поэтических посвящениях разных лет, Р.Нутфуллина замечает, что среди них есть произведения «где не звучит фамилия, имя Марины Цветаевой, но есть знаки-символы, по которым ее присутствие угадывается» [4, с.268]. И чаще всего это знаки-символы морской тематики.
Подобная самоидентификация по имени наблюдается и в лирике Ахматовой. Сама она прекрасно знала о значении своего имени, и неоднократно использовала его толкование «благодать» в различных контекстах в поэтических произведениях. Впервые в ее стихотворение имя попало в 1913 г.:
В то время я гостила на земле.
Мне дали имя при крещеньи – Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха [5, Т.1, (1998), с.146].
В этом стихотворении о юности, о том времени, когда так обострено чувство жизни, желание свободы, и имя лирической героини воспринимается как поэтическое ожидание счастья. Здесь же автор описала и свое первое знакомство с Музой – смуглой иностранкой, которое воспринимала как радостное событие, ожидание благодати:
Она слова чудесные вложила
В сокровищницу памяти моей,
И, полную корзину уронив,
Припала я к земле сухой и душной,
Как к милому, когда поет любовь [5, с.147].
Сама Муза, не названная здесь по имени, хоть и обозначается поэтом как иностранка, имеет в своем лирическом портрете очень четко выраженные черты сходства с самой Анной: она «стройная», «смуглая», говорит «неспешно», у нее чудесные глаза и «гладкая прическа». Отождествляя себя с самой поэзией, юная Ахматова, соответственно, отождествляла свой поэтический дар со щедрым подарком судьбы. В ранней лирике она так и называла его – «первой песни благодать» [5, с.417], в отличие от более поздних стихотворений, когда она неоднократно хулила свой дар, искала забвения.
Встреча Ахматовой с Борисом Анрепом способствовала появлению в лирике поэта новой темы – темы обретенной благодати в любви. С этим человеком поэтесса связывала свои мечты и чаяния, он сумел наполнить ее жизнь и лирику новым смыслом. Ему посвящены следующие строки:
Я знаю, ты моя награда
За годы боли и труда,
За то, что всем я все простила.
Ты будешь Ангелом моим. [5, Т.1, (1998), с.258]
Другое:
Ты – солнце моих песнопений,
Ты – жизни моей благодать [5, с.259].
Еще пример:
Моя рука, закапанная воском,
Дрожала, принимая поцелуй,
И пела кровь: блаженная, ликуй! [5, с.283]
Данные примеры не очень типичны для любовной лирики Ахматовой – ведь ее называли «певцом несчастной любви». Однако в этих стихотворениях она описывает если не состояние, то ожидание земной, женской благодати – взаимной любви.
Если построение собственного образа в лирике у Цветаевой связано с ее именем – Марина, – то для Анны Ахматовой было принципиально важно, чтобы в произведениях можно было увидеть намеки и на ее литературную фамилию. Вообще, принятие псевдонима и дальнейшая его реализация в поэтических произведениях – важный момент в творчестве любого поэта.
В.Виленкин вспоминал, как Ахматова рассказывала о том, что «ее предка по имени Ахмат или Ахмет на протяжении столетий анафематствовали в московском Вознесенском монастыре, поминая татарское нашествие» [6, с. 97]. Не эти ли проклятия предопределили литературную судьбу поэта?
Ее творчество не раз было подвергнуто гражданской казни, а имя предавалось литературной анафеме:
Как Отрепьева и Пугачева,
Так меня тринадцать лет клянут.
Неуклонно, тупо и жестоко
И неодолимо, как гранит,
От Либавы до Владивостока
Грозная анафема гудит [5, Т.2, кн.2 (1999), с.34].
Это стихотворение написано в 1959 г., во время ее, так называемого, второго периода молчания. Однако, еще начиная с 30-х годов тема казни, пытки, гражданской смерти прочно вошла в лирику Ахматовой, прекрасно иллюстрируя всю ту атмосферу ненависти, страха, хулы критиков, неприятия и непонимания, в которой она про- жила долгие годы. Пример этому – следующее стихотворение:
Вы меня, как убитого зверя,
На кровавый подымете крюк,
Чтоб, хихикая и не веря,
Иноземцы бродили вокруг.
И писали в почетных газетах,
Что мой дар несравненный угас,
Что была я поэтом в поэтах,
Но мой пробил тринадцатый час [5, Т. 2, кн. 1, (1999), с. 220].
Печального и возвышенного тона стихотворения не снижают «не литературные» выражения: «на кровавый подымете крюк», «хихикая», «бродили вокруг». Однако очень горько звучат строки, в которых автор перечисляет свои «заслуги»: «что мой дар несравненный угас, / Что была я поэтом в поэтах». Прибегая здесь к практически прямому цитированию высказываний критиков о своем творчестве, она сожалеет, что образ ее как поэта и человека весьма искажен в зарубежной печати, у «иноземцев», что они судят ее, ничего о ней не зная. По мнению Н.Королевой, поводом к написанию стихотворения послужили мемуарные записи русских эмигрантов, искажавшие многие факты действительности [5, с.609].
В поэтическом мире Цветаевой, как и у Ахматовой, есть место историческому мифу. Если Ахматова напрямую связывала свою литературную судьбу с историческим прошлым времен татарского ига, то Марина Цветаева из всех исторических персонажей выбрала для сравнения польскую авантюристку Марину Мнишек. Именно она стала героиней цикла «Марина» 1921 г. Проведя некоторые параллели в собственной биографии и биографии Мнишек, автор находит несколько сходных моментов. Во-первых, она указывает на собственное польское происхождение (польская бабушка и прабабушка упоминаются в ее стихах). Во-вторых, Цветаева отмечает, что обе они – обладательницы сильных, сложных, противоречивых характеров. И обе страстно желали земной любви, жгучего женского счастья:
Быть голубкой его орлиной!
Больше матери быть – Мариной!
Вестовой, часовым, гонцом –
Знаменосцем – льстецом придворным!
Серафимом и псом дозорным
Охранять непокойный сон [2, Т.1, с.146].
Противоречивую сущность своей героини Цветаева раскрывает даже на композиционном уровне. Как считает А.Саакянц «цикл построен на противопоставлении: любящая, самоотверженная героиня – плод романтического вымысла – в 1-м и 4-м стихотворениях и расчетливая авантюристка – реальное историческое лицо – в 2-м и в 3-м» [2, с.633]. Печальная участь героини стихотворений вызывает сочувствие автора, однако Цветаева не ищет оправданий злодеяниям реальной Марины Мнишек, не старается реабилитировать ее в глазах читателей.
Возвращаясь к творчеству Ахматовой, следует заметить, что чаще всего себя она называла «Анна Ахматова» или (в последние годы) «Анна Андреевна Ахматова». Почему же автор часто говорит о своем имени как о «горьком»? Вот, например, стихотворение «Имя»:
Татарское, дремучее
Пришло из никогда,
К любой беде липучее, –
Само оно – беда [5, Т.2, кн.1, (1999), с.219].
Подзаголовок стихотворения (А.А.А.) – три первоначальные буквы инициалов вынесены в заглавие, думается, не случайно. Подписывалась автор чаще всего как «Анна Андреевна Ахматова», то есть употребляла полное сочетание имени, отчества и фамилии. И есть все основания предполагать, что «само оно – беда», относится к этому сочетанию, как к единому поэтическому имени. В контексте прямого авторского указания на исторические корни псевдонима, сочетание «из никогда» можно осмыслить как то, что Анна Андреевна относилась к «татарской истории» все-таки как к легенде, семейному преданию, не претендующему на какое-либо соответствие настоящим историческим событиям.
Исходя из вышеизложенного, можно определить творческий псевдоним «Анна Ахматова», как «благодать – проклятие» в дословном переводе. Такая антитеза, заключающаяся уже в самом ее поэтическом осмыслении себя как поэта-творца проходит красной нитью сквозь все ее творчество, начиная с самых ранних произведений. Б.Эйхенбаум писал: «Лицо поэта в поэзии – маска» [7, с. 544]. Большое количество поэтических образов-масок, которые примеряет ее лирическая героиня антонимичны по своей сути: «монашенка» – «блудница»; «нищая» – «королева»; «порочная» – «невеста», «жена»; «пастушка» – важная «дама» и так далее. И во время такого «поэтического метания» ее героини из крайно- сти в крайность в лирику Ахматовой входит мотив двойничества, осознания своей нереальности, существования как бы за гранью реального мира:
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом,
Без имени, без плоти, без причины [5, Т.2, кн.1, с.172].
Подобное можно увидеть и в лирике Цветаевой. Тяготение к морской тематике, сопоставление себя и моря, имеет на наш взгляд сложную психологическую природу. Характер моря, как известно весьма противоречив. Оно легко может обмануть штилем или легкой волной, когда в глубине его кипит необузданная стихия. И свой характер Цветаева сравнивала с морской переменчивостью. Многие современники удивлялись, сколько страстей таила в себе эта женщина, какие противоположности уживались внутри ее сильной, неординарной личности. А Л.Козлова о противоречивости цветаевской героини пишет: «Уже в ранних стихах обозначились две сущности взрослой Марины, две ее разные ипостаси, если не сказать – взаимоисключающие. С одной стороны – грусть, тоска, – как обычное состояние в повседневности – и вечное заглядывание за край жизни… С другой – яркая, предельная (беспредельная!) радость жизни…» [3, с.5–6]. И в лирике это нашло свое отражение:
Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа И амазонкой мчаться в бой;
Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень… [2, с.39 – 40]
Другой пример:
Безумье – и благоразумье,
Позор – и честь,
Все, что наводит на раздумье,
Все слишком есть –
Во мне! – Все каторжные страсти
Слились в одну! [2, с.51]
Исследователь А.Павловский замечал: «Поразительно, как настойчиво – в разных стихах – примеряет и примеряет она к себе самые различные одеяния, поступки, жесты, пробует походку, похожую на ветер, становится цыганкой, счастливой любовницей, неверной женой, клятвопреступницей и грешницей» [9, с.84]. О.Клинг считает, что «в поэтической системе Цветаевой вообще целая система двойников» [10, с.58].
Интересно и то, как обе женщины видели себя, свое творчество в русской литературе. По мнению Т.Яковлевой, обращение Ахматовой в ранней лирике к «историческому» псевдониму «претендует на живую связь с историей, на законность и закономерность будущей славы» [10, с.16]. К историческому, как очень важному элементу ее поэтического мира, направляют читателей и ее «признания» в том, что она – «чин-гизидка», и обращение к Азии как к «родине родин», и другие примеры. Но важнее, на наш взгляд то, что Ахматова осознавала себя как Поэта только в связи с историческим развитием литературного процесса (особенно в поздний период творчества). Она не только намекала на родство с известным историческим лицом, но и сама создавала личность знаменитого поэта вне каких-либо временных рамок. В «Слове о Пушкине» она писала: «Он победил и время, и пространство. Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург…» [5, Т.4, (2000), с.275]. И тут же сокрушается: «Ахматовской звать не будут / Ни улицу, ни строфу» [5, Т.2, кн.1, (1998), с.119]. И все же, не смотря ни на что, этой женщине удалось достичь вершин поэтического мастерства. Очевидно, что каким бы анафемам ни предавалось ее имя, она всегда верила и надеялась на незыблемость своего творчества, на любовь и память потомков:
Но все-таки услышат голос мой.
И все-таки ему опять поверят [5, т.1, (1998), с. 457].
Осознание себя как поэта пришло к Цветаевой рано. И основную задачу свою она видела в том, чтобы «донести все, что прочувствовала и написала до людей, отдать свое душевное богатство» [1, с.161]. Уже в стихотворении 1913 г. она четко и ясно раскрыла особенности своей лирики:
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам… [2, с.45]
Не обольщаясь скорой и громкой славой, она называет свои стихи «нечитанными», «разбросанными в пыли по магазинам». О.Клинг считает, что основное в этом произведении – «мотив невостребованности» поэта [ 9, с.40 ]. Но, как и
|
Ахматова, Цветаева верит в собственное бессмертие: |
ческих уровнях, создает сложный образ поэта в лирике. Он отличается противоречивостью, от- |
|
Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед. [9, с.45] |
ражает различные грани характера поэта, помогает во всей полноте показать своеобразие и богатство его художественного мира. |
Таким образом, собственное литературное имя автора, актуализируясь на различных лири-
-
1. Козлова, Л. «Я и мир» Константина Паустовского и Марины Цветаевой // «Через сотни разъединяющих лет»: Материалы V Международных Цветаевских чтений. Елабуга, Изд-во ЕГПУ, 2011. С. 161
-
2. Цветаева, М.И. Собрание сочинений: в 2 томах. Т. I. М., Изд-во Художественная литература, 1988. С. 41–42.
-
3. Козлова, Л. Танцующая душа. По поэтическим следам Марины Цветаевой. Ульяновск, Изд-во Симбирская книга,1992. С. 48.
-
4. Натфуллина, Р.А. Поэтические посвящения Марине Цветаевой. Новые материалы // «Через сотни разъединяющих лет»: Материалы V Международных Цветаевских чтений. Елабуга, Изд-во ЕГПУ, 2011. С. 268.
-
5. Ахматова, А.А. Собрание сочинений: в 8 томах. Т. I. М., Изд-во Россия, 1998. С. 146.
-
6. Виленкин, В. В сто первом зеркале. Издание 2-е, доп.. М., Изд-во Советский писатель, 1990. С. 97.
-
7. Эйхенбаум, Б. Анна Ахматова // Анна Ахматова: pro et contra: антология. Т.1 / сост., вступительная статья, примечание.Св. Коваленко. СПб., РХГИ, 2001. С. 544.
-
8. Павловский, А. Куст рябины. О поэзии марины Цветаевой. Л., Изд-во Советский писатель, 1989. С. 84.
-
9. Клинг, О.А. Поэтический мир Марины Цветаевой: в помощь старшеклассникам, абитуриентам, преподавателям. М., Изд-во МГУ, 2004. 112 c . С. 58.
-
10. Яковлева, Т. «Анна»: мозаичный миф в ранней лирике А.А.Ахматовой // Поэтика имени: сборник научных трудов / под редакцией Г.П.Козубовской, И.Н.Островских. Министерство образования и науки РФ, Барнаул, Государственный педагогический университет Барнаул, Б. и., 2004. 124 с. С. 16.
Список литературы Собственное имя как поэтический образ в лирических произведениях М. И. Цветаевой и А. А. Ахматовой
- Козлова, Л. «Я и мир» Константина Паустовского и Марины Цветаевой//«Через сотни разъединяющих лет»: Материалы V Международных Цветаевских чтений. Елабуга, Изд-во ЕГПУ, 2011. С. 161
- Цветаева, М.И. Собрание сочинений: в 2 томах. Т. I. М., Изд-во Художественная литература, 1988. С. 41-42.
- Козлова, Л. Танцующая душа. По поэтическим следам Марины Цветаевой. Ульяновск, Изд-во Симбирская книга,1992. С. 48.
- Натфуллина, Р.А. Поэтические посвящения Марине Цветаевой. Новые материалы//«Через сотни разъединяющих лет»: Материалы V Международных Цветаевских чтений. Елабуга, Изд-во ЕГПУ, 2011. С. 268.
- Ахматова, А.А. Собрание сочинений: в 8 томах. Т. I. М., Изд-во Россия, 1998. С. 146.
- Виленкин, В. В сто первом зеркале. Издание 2-е, доп. М., Изд-во Советский писатель, 1990. С. 97.
- Эйхенбаум, Б. Анна Ахматова//Анна Ахматова: pro et contra: антология. Т.1/сост., вступительная статья, примечание.Св. Коваленко. СПб., РХГИ, 2001. С. 544.
- Павловский, А. Куст рябины. О поэзии марины Цветаевой. Л., Изд-во Советский писатель, 1989. С. 84.
- Клинг, О.А. Поэтический мир Марины Цветаевой: в помощь старшеклассникам, абитуриентам, преподавателям. М., Изд-во МГУ, 2004. 112 c. С. 58.
- Яковлева, Т. «Анна»: мозаичный миф в ранней лирике А.А. Ахматовой//Поэтика имени: сборник научных трудов/под редакцией Г.П. Козубовской, И.Н. Островских. Министерство образования и науки РФ, Барнаул, Государственный педагогический университет Барнаул, Б. и., 2004. 124 с. С. 16.