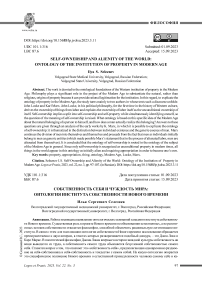Собственность себя и чуждость мира: онтология института собственности нового времени
Автор: Селезнев И.С.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена выявлению онтологических оснований западного института собственности Нового времени. Существенная роль в проекте Нового времени по обоснованию естественных, а не религиозных истоков собственности отводится философии, способной обеспечить рациональную легитимацию института. В связи с этим для экспликации онтологии собственности Нового времени исследование обращается преимущественно к двум авторам, в текстах которых разворачивается подобный дискурс, - это Джон Локк и Карл Маркс. В политической философии Джона Локка впервые в истории западной культуры собственность на вещи выводится из труда, а собственность самого труда объясняется безусловной собственностью самого себя. Ставится вопрос о том, что означает эта «собственность себя», предполагающая одновременно раздвоение на себя-собственника и себя-собственность и тождество с самим собой. На какую онтологию опирается это специфическое положение Нового времени о естественной принадлежности человека самому себе и каким образом человек фактически осуществляет эту принадлежность? Ответы на эти вопросы даются через анализ раннего творчества К. Маркса, в котором представляется возможность эксплицировать онтологию собственности себя: последняя тематизируется в различении индивидуального существования и родовой сущности человека. Маркс продолжает локковское раздвоение человека на себя и себя и исходит из того, что человек как индивид принадлежит человеку как родовой сущности (потому только становится возможным утверждение Маркса о том, что в процессе отчужденного труда человек отчуждается от самого себя). Делается вывод о том, что онтология собственности себя коренится в онтологии субъекта Нового времени вообще. Так как безусловной собственностью в Новое время признается лишь собственность себя, все вещи мира предстают в этой онтологии исходно чуждыми и еще только требующими присвоения, чтобы стать своими.
Собственность, присвоение, вещь, онтология, новое время, локк, маркс
Короткий адрес: https://sciup.org/149145062
IDR: 149145062 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.3.11
Текст научной статьи Собственность себя и чуждость мира: онтология института собственности нового времени
DOI:
Постановка вопроса об онтологических истоках собственности наталкивается на одну существенную трудность: собственность обычно понимается как чисто институциональная категория, для которой, кажется, онтология безразлична. Принято считать, что собственность есть результат конвенции, регулирующей правоотношения в обществе, и означает она юридическую закрепленность блага за физическим или юридическим лицом.
Однако в институционально значимых текстах разных эпох и жанров (политической философии, законодательной или религиозной мысли), говорящих об основаниях собственности, последняя рассматривается в двух различных смыслах. Во-первых, как правовая и условная собственность на вещи , которую получает человек в результате ритуальных или юридических процедур посвящения в собственники. Например, когда сын в архаической культуре после смерти своего отца занимает его место и получает собственность на землю своей семьи. Во-вторых, как безотносительная собственность самих вещей , существующая без опосредующих процедур. Например, у Фомы Аквинского Бог – абсолютный, онтологический собственник творения как его создатель, а человек лишь относительный владелец вещей [Аквинский 2013, 231]. В Новое время утверждается, что безусловная «собственность себя», какой обладает каждый человек естественно, обеспечивает ему собственность на продукты своего труда.
Иными словами, в исторических дискурсах собственности западной культуры различаются собственность субстанциальная и правовая, собственность вещей и собственность на вещи. Мы используем понятие «дискурс» в том значении, какое оно получило в «Археологии знания» М. Фуко: всякий институт существует как дискурсивная практика – способ артикуляции, подчиняющийся тем или иным правилам и определяющий исторически относительную специфику институциональных форм [Фуко 2004, 107]. Для дискурсивных практик собственности характерно то, что правовая собственность выводится из первичной субстанциальной собственности и в этом смысле можно говорить об онтологии института собственности. Мы встретим это положение дел в архаике, в Средние века, в Новое время (в этой работе речь пойдет только о последнем случае).
Прежде чем эксплицировать эту онтологию, мы обращаемся к формам институциональных практик собственности Нового времени, получивших свое специфическое развитие на почве западноевропейского капитализма. Мы рассматриваем, каким образом эти формы укоренены в онтологической собственности себя, как эти процессы привели западноевропейскую культуру к современному истолкованию собственности и в чем оно заключается.
Присвоение трудомкак новый источник собственности
Когда в западной Европе XVI–XVII вв. возник и оформился особый тип капитализма со своим духом и этикой, это положило водораздел между традиционными формами собственности и собственностью Нового времени. Как показал Макс Вебер, западноевро- пейский капитализм по самой своей сути был враждебеден традиционному пониманию хозяйства по той причине, что ставил конечной целью труда не удовлетворение потребностей, а извлечение и увеличение прибыли. Согласно Веберу, когда новые капиталистически ориентированные управляющие предприятий пытались стимулировать работников увеличением заработной платы, это имело обратный эффект: некапиталистически настроенные рабочие не увеличивали, а уменьшали свой объем труда, так как они стремились не к увеличению прибыли, а к удовлетворению своих потребностей при наименьших трудовых усилиях [Вебер 2021, 35].
Как показал еще Маркс, капиталистическое хозяйство предполагает перманентный процесс вложения приобретенного имущества в производство, приносящее прибыль. Церковная и так называемая феодальная собственность, установившиеся в Средние века, могли только препятствовать этому процессу, удерживая блага от обращения в производстве и общественном распределении благ – потому Новое время отмечено крупными экспроприациями земельной и иной собственности как частными лицами, так и государствами в западной и восточной Европе. Очевидно, что капитализм не смог бы состояться в полной мере без этих экспроприаций, расковавших его производительные силы 1.
Одно из основополагающих положений о собственности Нового времени гласит: источником собственности может и должен выступать производительный труд. Из исследований Вебера известно, что труд в Новое время перестал считаться лишь делом необходимости и получил статус долга человека . Протестантская этика (в первую очередь, кальвинистского толка) видит в труде не одно лишь средство для удовлетворения потребностей, но исполнение призвания человека, мирское служение Богу [Вебер 2021, 126]. Последовавшая за Реформацией секуляризация западной культуры не отменила долг труда, но лишь заменила Бога обществом, заявив, что человек должен трудиться во благо общества. Продолжая мысль Вебера, скажем, что новая этика труда учредила одновременно этику собственности: человеку должно принадлежать то, что он добыл собственным трудом.
Однако отдельного рассмотрения для экспликации онтологии собственности Нового времени заслуживает представление о том, что труд вообще может выступать источником собственности. Как и всякая революционная идея, ставшая конституирующей для политического и экономического порядка, это положение превратилось теперь в естественную установку, нечто само собой разумеющееся. Однако даже самое беглое сравнение оценки труда в античности и Средневековье с Новым временем показывает, что труд до XVI–XVII вв. не только никогда не рассматривался как источник богатства и собственности, но, напротив, был спутником нищеты и нужды [Арендт 2000, 43]. Например, для классической античности труд – удел несвободного человека, который не в силах одной своей собственностью обеспечить себе существование и потому вынужденного трудиться, но не для того, чтобы разбогатеть, а для того, чтобы выжить.
Положение о том, что труд порождает собственность, впервые на философском уровне было обосновано Джоном Локком в «Двух трактатах о правлении» (1690). Локк рассуждает так: «Мы можем сказать, что труд его [человека] тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью» [Локк 1988, 277].
Идея Локка состоит в том, что труд порождает собственность потому, что сам уже изначально принадлежит человеку «по самому строгому счету» (то есть самоочевидным образом, не требующим обоснований). В текстах такого уровня и значения вряд ли могут быть случайности, и Локк не для одного красноречия указывает на индивидуально-телесный характер собственности труда: «труд его тела и работа его рук». По Локку, труд есть собственность не человека вообще как рода, из чего исходил позднее Маркс, а человека как индивида, потому что его осуществляет индивидуальное тело (обратиться к труду в его индивидуально-телесном аспекте потре- бовала задача Локка обнаружить «естественные» истоки собственности, не нуждающиеся в государственном или религиозном законе для своего обоснования).
Действительно, если смотреть с точки зрения «естественного разума», а это есть точка зрения Нового времени, именно индивидуальное тело представляется эмпирическому наблюдению чем-то таким, что хотя и присутствует в мире, но не может быть общим даже для двух человек. Труд индивидуального тела считается в этом смысле собственностью par excellence , не установленной законами, но «естественной», то есть безусловной. Так, в Новое время уже у Локка на передний план выходит индивидуальная собственность, порожденная индивидуальным трудом.
Однако для истории онтологии собственности куда существеннее другое обстоятельство: возникает не только новое обоснование индивидуального масштаба собственности, но само понятие собственности меняет свое значение. Когда Локк обосновывает собственность на продукты труда тем, что она вытекает из первичной собственности самого труда, он говорит о собственности в двух принципиально разных смыслах, употребляя один и тот же термин. Чтобы увидеть это, восполним недостающее звено – собственность труда и тела фундирована у Локка в еще более ранней собственности себя: «Хотя земли и все низшие существа принадлежат сообща всем людям, все же каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности…» [Локк 1988, 277].
Мы вправе задать вопрос: возникла ли первичная собственность себя благодаря труду? Ответ должен быть однозначным: нет, и Локк не утверждает этого. Обращаемся ли мы со своим телом и собственным трудом также как с продуктами труда? Нет, хотя бы потому, что продуктами труда мы можем распоряжаться (отчуждать их), а телом и собственным трудом не можем. Иными словами, телом и своим трудом, то есть самим собой мы не можем не владеть пока живем, то есть не можем распоряжаться самим нашим владением. Тело и труд принадлежат нам так, что и мы сами в каком-то смысле принадлежим им – иначе обстоит дело с продуктами труда, которыми мы в силах распоряжаться и потреблять.
Таким образом, сам человек, если и принадлежит себе, то вовсе не потому, что был присвоен трудом, как вещи мира, а потому, что его тело и труд субстанциально (неотъемлемо) принадлежат ему. Только потому телесный труд уже изначально и огражден от общего владения в отличие от вещей мира, что тело и труд неотчуждаемы от его носителя. В свою очередь, продукты труда становятся собственностью в теории Локка вследствие некоей эманации собственности из ее «естественного» источника собственности себя (Локк концептуализирует это как «вложение труда» в вещи, «присоединение труда» к вещам, см. цитаты выше). Иными словами, в описании Локка вещи мира становятся собственностью в результате переноса на них изначальной собственности труда.
В самом же тексте Локка этот перенос соответствует смещению значения термина «собственность»: в конечном счете это не бытийная, а деятельно-присвоительная принадлежность. В самом деле, Локк утверждает, что собственность есть то, что создано трудом, а значение первоначальной субстанциальной собственности себя остается в тени. Иными словами, собственность на продукты труда не просто выводится Локком из собственности самого труда и себя, а первый смысл собственности вытесняет второй.
Эта идея, что собственность порождается трудом, а значит и сама собственническая связь носит деятельно-присвоительный характер, имело крупные следствия. Прежде всего то, что в Новое время стирается различие между собственностью и владением имуществом 2. Ни одна эпоха западной культуры до Нового времени не отождествляла две эти вещи: раб в Древнем Риме мог владеть крупным имуществом в виде денег и даже других рабов, но не мог иметь собственности [Арендт 2000, 80]. Кочевые племена знали «имущество» в форме владения урожаем, но не знали собственности земли, появившуюся лишь у оседлых народов 3.
Красноречивее же всего отождествление собственности и имущества выражено у Локка в приравнивании земли и урожая, этих двух древнейших прообразов собственности и имущества соответственно. Локк приравни- вает их все по тому же основанию – и то, и другое человек присваивает своим трудом: «Но главным предметом собственности являются теперь не плоды земли и не звери, которые на ней существуют, а сама земля, которая заключает в себе и несет с собой все остальное; мне думается, ясно, что и эта собственность была приобретена таким же образом, как и предыдущая. Участок земли, имеющий такие размеры, что один человек может вспахать, засеять, удобрить, возделать его и потребить его продукт, составляет собственность этого человека. Человек как бы отгораживает его своим трудом от общего достояния» [Локк 1988, 279].
Земля потому традиционно считалась собственностью, а плоды земли владением, что она в самой своей вещественности воплощала неподвижность собственности и так выражала значение места человека в мире. Плоды земли потому считались лишь владением, но не собственностью, что из-за своей недолговечности и потребляемости не могли служить собственным местом человека в мире. Однако, если мы вслед за Локком будем последовательны в том, что собственность создается «присоединением труда» к вещам мира, разница между продуктами потребления и более долговечными вещами, образующими устойчивый жизненный мир человека, исчезнет в отношении их собственности и несобственности.
Таким образом, сближение собственности и имущества до неразличимости в Новое время происходит потому, что собственность в новой капиталистической экономике понимается не как неотчуждаемое место человека в мире, а как деятельный процесс присвоения и владения. Именно так относиться к «тому, что имеешь» и призывает Франклин: считать это не пассивным богатством среди которого живет человек, а активным имуществом-капиталом, которым он распоряжается ради его же, капитала, увеличения.
Насколько процессуализация собственности лежит в основании собственности Нового времени вообще, а не только в капиталистической идее и практике, видно на примере теории Маркса, капитализму враждебного. Маркс в «Капитале» прямо отождествляет собственность и присвоение: «Всякое производство есть присвоение индивидом предметов природы… <...> В этом смысле будет тавтологией сказать, что собственность (присвоение) есть условие производства» [Маркс 1968, 23–24].
Хотя Маркс поставил под сомнение и отверг буржуазный миропорядок Нового времени, вместе с тем он заострил и развил многие фундаментальные установки эпохи, общие у него с Локком. Например, для Маркса самоочевидно, что продукт труда есть собственность субъекта труда (но коллективного, а не индивидуального субъекта) и только в превращении продукта в товар на рынке лежит начало его отчуждения. Еще более явным образом Маркс следует Локку в вопросе о труде, исходя из того же убеждения, что труд безусловно является собственностью трудящихся.
Однако Маркс в одном отношении идет дальше своих предшественников, а именно в проекте освобождения человека от традиционных форм собственности, сковывающих его производительные силы, ибо Маркс записывает в свои враги и сам капитализм: «Превращая деньги в товары, которые служат вещественными элементами нового продукта, или факторами процесса труда, присоединяя к их мертвой предметности живую рабочую силу, капиталист превращает стоимость – прошлый, овеществленный, мертвый труд – в капитал, в самовозрастающую стоимость, в одушевленное чудовище, которое начинает “работать” как будто под влиянием охватившей его любовной страсти» [Маркс 1960, 206].
Столь характерное для Маркса драматическое противопоставление «мертвой предметности» и «живой рабочей силы», в котором он всегда на стороне «живого», выдает его программу: освободить человека от закабаляющей его «мертвой» частной собственности ради «живой» стихии присвоения мира, не переходящего в капитал, а сохраняющего свою процессуальность.
В этом и есть смысл коммунизма по Марксу – общества без профессий, где человек каждый день и каждый момент выбирает кем ему быть и чем заниматься, то есть ничем не скован во временном присвоении вещей 4. Но именно эта тенденция замены тра- диционной собственности присвоением и лежит в основе капитализма, как показано выше. Маркс лишь доводит эту тенденцию до предела, критикуя и сам капитализм, тоже создавший препятствие для свободы присвоения, подчинивший творческие силы человека «ожившему чудовищу» – капиталу, который может только или расти, или исчезать, а потому всегда требует для себя человеческого труда.
Парадоксальным образом Маркс борется с капитализмом во имя тех же фундаментальных идей, на которых основывается сам капитализм и, прежде всего, на требовании высвободить присвоительные (производительные) способности человека. Для этого Маркс утверждает, что истинным собственником труда и его продуктов следует считать человека не в качестве индивида, а в качестве «родовой сущности» [Маркс 2010, 332], что позволило бы состояться общественной собственности, дав каждому индивиду в отдельности свободу присвоения, но без капитализации блага. Насколько Маркс прозрел в этом месте онтологию собственности своей эпохи, будет показано далее.
Онтология естественной собственности себя
Теперь мы можем приступить к рассмотрению основного вопроса: какая онтология, то есть дискурс безусловной субстанциальной собственности сделала возможной эти трансформации собственности в Новое время?
Как мы видели в теории Локка, то, что труд порождает собственность на вещи, коренится в основополагающей интуиции, что сам труд и человек принадлежат самому себе. «Каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности», – этими словами Локк не только начинает свою трудовую теорию собственности, но и кладет основание дискурса онтологической собственности себя.
В самом деле, то, что исходно 5 человек принадлежит самому себе, есть специфическое видение Нового времени, незнакомое ни Средним векам, ни Античности. Хотя и для Платона, и в особенности для римских стоиков владение самим собой имеет существен- ное значение, никто в античности не считал, что это состояние естественно для человека. М. Фуко в курсе лекций «Герменевтика субъекта» показал, что, например, Сенека исходил из того, что «естественно» для человека быть «stultus» (глупцом), что не в последнюю очередь значит неумение владеть собой 6. Овладение же собой возможно лишь в результате длительных упражнений и воспитания.
Но что значит «собственность себя»? Кто или что здесь лицо, выступающее собственностью и кто собственник этого лица? Одно – индивид, трудом своего тела порождающий условно-правовую собственность на продукты труда, а другое – все время остающееся в тени повествования Локка лицо, которому безусловно и субстанциально безо всякого порождения трудом и чем бы то ни было еще принадлежит сам индивид и его трудящееся тело.
То, что у Локка фигура умолчания, высказано прямо у Маркса в его раннем сочинении «Экономическо-философические рукописи», где он впервые формулирует идею, что отчужденный труд отчуждает человека от самого себя [Маркс 2010, 40]. Вновь воспроизводя эту характернейшую для Нового времени раздвоенность человека на себя и себя, Маркс идет дальше и указывает, что есть второй «сам», от которого отчуждается человек (и значит исходно, до отчуждения принадлежит ему). Это – «родовая жизнь» [Маркс 2010, 40], человек не как индивид, а как род, чья суть заключается в производительной жизни 7.
Что индивидуальное существование человека субстанциально принадлежит его родовой сущности Маркс не проговаривает специально нигде, но строит именно на этом свою теорию 8. В самом деле, сам концепт «отчуждение», разросшийся впоследствии в целый дискурс об отчуждении, базируется у Маркса на первичной интуиции безусловной и субстанциальной собственности, какая есть у человека – родового существа в отношении самого себя, труда и его произведений и которую капиталистический порядок общества извращает. Ибо не в том протест Маркса против капитализма, что он нарушает должный порядок вещей, а в том, что искажает истин- но сущий и в первую очередь не дает состояться онтологической собственности «родового существа», отдавая истинно его блага – главное, сам труд! – в частные руки. Иными словами, Маркс доводит положение Локка о собственности труда до логического конца: если труд принадлежит индивиду, а сам индивид исходно принадлежит «себе», этот второй «сам», Марксом названный родовым существом, и есть подлинный собственник труда и его продуктов 9.
Насколько в этом месте Маркс высказывает не свое частное мнение, а следует магистральной тенденции онтологии и антропологии Нового времени, видно по тому, что сущностная черта бытия человека по Марксу – это «производственность». Классические исследования Макса Вебера и анализ Нового времени Ханны Арендт показывают, что это – фундаментальная интуиция Нового времени вообще 10.
Концепт Маркса «родовое существо» важен здесь тем, что он прямо артикулирует раздвоение лиц собственности, в которых мы усматриваем – онтологическое лицо субстанциальной собственности и фактическое лицо собственности условно-правовой. Причем субстанциальность принадлежности индивида родовому существу настолько для Маркса не стоит под вопросом, что доходит до тождества – человек и есть Человек. Однако то, что Маркс признает существование отчуждения от самого себя, все же обнаруживает несовпадение и не тождественность этих лиц.
Только эта субстанциальная собственность человека как родового лица и делает возможной вообще понимание собственности Нового времени. В самом деле, человеку (индивиду или коллективу, здесь все равно) принадлежит то, что он создал трудом только потому, что сам его труд и он принадлежат себе. Если изъять эту первичную собственность, мы получим нечто противоположное, что было известно, например, античности: то, что создал раб принадлежит не ему, а его господину по той простой причине, что сам раб не принадлежит себе.
Иными словами, новая индивидуалистическая онтологическая концепция собственности могла случиться не раньше появления идеи онтологического лица субстан- циальной собственности себя и без него современная собственность не могла бы состояться.
Это лицо можно назвать и другим, может быть, более точным и охватывающем именем. В понятии «родового существа» хорошо угадывается тот смысл, который в Новое время получило понятие «субъект». Как показал Хайдеггер, subiectum (букв. «под-ле-жащее»), до Нового времени бывшее именем не только человека, но всего сущего в его безусловной данности и в смысле выступа-ния-основанием, в Новое время закрепляется исключительно за человеком и неслучайным образом [Хайдеггер 1993, 78]. Субъект в качестве имени человека наделяет последнего статусом основания сущего, ибо само сущее истолковывается как «объект» (предмет), то есть как лишь нечто пред-стоящее сознанию 11. Так, мир взятый как предмет сознания (cogito) считается тем, что имеет своим источником и основанием само сознание, ибо без него не существует. Иными словами, именно «субъект», ставшее именем человека par excellence в Новое время объединяет в себе два значения: основание сущего и лицо.
Маркс же дает такую онтологическую дефиницию «родовой жизни»: «это есть жизнь, порождающая жизнь» [Маркс 2010, 330]. Этим онтологическим определением сказано, что «родовое существо» не только онтологическое лицо субстанциальной собственности, но и условие сущего – то, что его (сущее) порождает. Это значит, что понятие «родовое существо» Маркса, которое имплицитно также лежит в основании трудовой теории Локка, занимает то же место в онтологии собственности Нового времени, что и понятие «субъект» – в онтологии Нового времени вообще. Таким образом, онтология собственности Нового времени базируется на онтологии субъекта, ибо последний как раз представляет собой надындивидуальное лицо, в котором обнаруживает собственную основу всякое фактическое индивидуальное лицо и окружающее его сущее.
В «Бытии и времени» Хайдеггер, разбирая проблему познаваемости внешней реальности в нововременной философии, замечает, что сама постановка подобного вопроса опирается на интуицию вынесенного из реально- сти субъекта, мыслящего ее как предстоящей своему сознанию. Только представление о подобной невовлеченности бытия человека в мир делает возможным возникновение этого вопроса [Хайдеггер 1997, 206].
Такая точка безмирного 12 субъекта, от которой отсчитывается классическая нововременная онтология добывается у Рене Декарта: если представить себе, что все данные сознания столь же иллюзорны, сколь сновидения, то «в это самое время, когда я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким образом рассуждающий, действительно существовал» [Декарт 2019, 62].
Картезианская формула Ego cogito ergo ego sum, утверждая непосредственную открытость сознания самому себе, закрывает при этом субъекту первичный доступ к вещам, ибо, хотя и можно строить гипотезы о том, существует ли сам мир в действительности или только снится субъекту, само бытие cogito таково, что не имеет доступа к присутствию вещей в мире, а только к собственному сознаванию, направленному на них. Вещи, таким образом, мыслятся лишь как объекты cogito , эффекты активности ego и лишаются положительного онтологического статуса. Субъективность же, напротив, эмансипируется от вещей и существует автономно, будучи откреплена в своем бытии от них.
В самом деле, «субъект» в качестве надындивидуального онтологического лица собственности Нового времени никогда не существовал в телесном обличии и не жил в мире, потому никакая вещественность мира не требуется, чтобы принадлежать ему. Единственная вещь, связывающая индивида с онтологическим лицом собственности в Новое время – его же индивидуальное тело, принадлежащее индивиду субстанциально и неотъемлемо.
На уровне политической практики описанная десубстанциализация собственности вещей мира в Новое время сделали возможным масштабные перераспределения собственности, бушевавшие в Европе вплоть до конца двадцатого века (в качестве исторически последнего эпизода этих революционных событий, начавшихся по меньшей мере с Великой английской революции XVII в., следует указать приватизацию государственной соб- ственности в России 1990-х гг.). Ибо собственность, понятая как отгораживающее присвоение, открыла и революционные истолкования наличной собственности как необоснованно узурпированного блага, закрепленного лишь формально-юридически.
Выводы
Таким образом, решающая тенденция институциональной практики и дискурса собственности в Новое время заключается в истолковании собственности как деятельности по присвоению мира. Это привело к стиранию различия между собственностью и владением имуществом, которые различались в прежних эпохах как неотчуждаемое место человека в мире и как владение преходящими благами. Эта институциональная практика укоренена в онтологии собственности себя, носящей безусловный и субстанциальный характер.
Так как в Новое время считается, что лишь собственное индивидуальное тело и труд субстанциально принадлежат человеку, а вещи мира еще только предстоит присвоить трудом, это предполагает, что вещи мира исходно ничьи. Потому всякая собственническая связь с вещами мира не может внутри онтологии субъекта Нового времени носить субстанциальный характер, а только деятельно-присвои-тельный. Но человек осуществляется в общем мире вещей, а не в индивидуальном теле, потому из двух значений собственности в Новое время ведущим стало второе, то есть присвоение, ибо только оно и возможно как собственность в общем мире внутри такой онтологии. Таким образом, в Новое время мир вещей предстает как исходно чуждый человеку 13.
В самом деле, если собственность создается трудовым присвоением, она может существовать только в отношении к вещам, изначально не присвоенным и, значит, чуждым. Потому предпосылка чуждости мира столь решающий, сколь и неизбежный момент онтологии собственности себя. В этом смысле Новое время реализовало то, что мыслитель Ренессанса Пико делла Мирандола заявил как основополагающий антропологический принцип гуманизма своего времени: человеку, в отличие от всего сущего, «не дано определен- ного места» в мире [Брагина 1977, 225]. Цена утверждения исходной субстанциальной собственности себя есть первичное отчуждение мира вещей и утраты человеком неотъемлемо своего места в нем.
Следствием же онтологии Нового времени для практики собственности стало ее разве-ществление . В современном праве общим местом является положение о том, что «собственность – это право, владение – факт» [Прудон 1998, 35]. Действительно, современная практика собственности, стоящая преимущественно на онтологии собственности себя, не предполагает контакт лица с вещью: быть собственником – значит иметь лишь возможность пользоваться, владеть и распоряжаться благами. Единственным фактическим, а не юридическим условием собственности в современном праве является дееспособность лица, то есть опять же его способность обращаться с вещами 14. Иными словами, онтология собственности себя привела к антропоцентрической редукции собственности к возможностям и способностям человека и элиминации вещи.
Список литературы Собственность себя и чуждость мира: онтология института собственности нового времени
- Аквинский 2013 – Аквинский Ф. Сумма теологии. Ч. II-II. Вопросы 47–122. Киев: Ника-Центр, 2013.
- Арендт 2000 – Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000.
- Брагина 1977 – Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV–XV веков. М.: Высш. шк., 1977.
- Вебер 2021 – Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: АСТ, 2021.
- Декарт 2019 – Декарт Р. Рассуждение о методе. М.: АСТ, 2019.
- Локк 1988 – Локк Дж. Сочинения. В 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988.
- Маркс 1960 – Маркс К. Капитал. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. М.: Госполитиздат, 1960.
- Маркс 1968 – Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг.: (Первоначальный вариант «Капитала»). М.: Политиздат, 1968.
- Маркс 2010 – Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы. М.: Акад. Проект, 2010.
- Маркс, Энгельс 1988 – Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М.: Политиздат, 1988.
- Прудон 1998 – Прудон П.Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти. Бедность как экономический принцип. Порнократия, или Женщины в настоящее время. М.: Республика, 1998.
- Рыженков 2018 – Рыженков А.Я. Структура права собственности (теоретико-философский анализ) // Legal Concept = Правовая парадигма. 2018. Т. 17, № 1. С. 91–97. DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2018.1.15
- Фуко 2004 – Фуко М. Археология знания. СПб.: Гуманит. Акад.: Унив. кн., 2004.
- Фуко 2007 – Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году. СПб.: Наука, 2007.
- Фюстель де Куланж 1895 – Фюстель де Куланж Н.Д. Древняя гражданская община: Исследование о культе, праве, учреждениях Греции и Рима. М.: Типо-литография товарищества И.Н. Кушнерев и К°, 1895.
- Хайдеггер 1993 – Хайдеггер М. Время и бытие: ст. и выступления. М.: Республика, 1993.
- Хайдеггер 1997 – Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997.