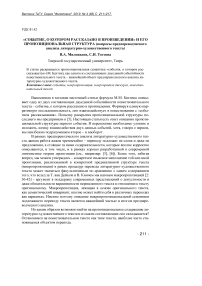"Событие, о котором рассказано в произведении" и его пропозициональная структура (вопросы предпереводческого анализа литературно-художественного текста)
Автор: Миловидов Виктор Александрович, Тогоева Светлана Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается пропозициональная семантика «события, о котором рассказывается» (М. Бахтин), как одного из составляющих двуединой событийности повествовательного текста - важнейший объект предпереводческого анализа литературно-художественного текста.
Событие, макропропозиция, макроправила дискурса, повествовательный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/146281528
IDR: 146281528 | УДК: 81.42
Текст научной статьи "Событие, о котором рассказано в произведении" и его пропозициональная структура (вопросы предпереводческого анализа литературно-художественного текста)
Вынесенная в заглавие настоящей статьи формула М.М. Бахтина описывает одну из двух составляющих двуединой событийности повествовательного текста – событие, о котором рассказано в произведении. Формируя единую нарративную последовательность, оно взаимодействует в повествовании с «событием рассказывания». Попытку раскрытия пропозициональной структуры последнего мы предприняли в [5]. Настоящая статья есть опыт описания пропозициональной структуры первого события. В перспективе необходимо уловить и изложить логику взаимодействия двух данных событий, хотя, говоря о первом, мы неизбежно подразумеваем второе – и наоборот.
В рамках предпереводческого анализа литературно-художественного текста данная работа важна чрезвычайно – переводу подлежат не слова и даже не предложения, а стоящие за ними содержательности, которые вполне корректно описываются, в том числе, и в рамках хорошо разработанной в современной лингвистике теории пропозиции (см., например: [3], [6]). Более того, забегая вперед, мы можем утверждать – конкретное языковое наполнение той или иной пропозиции, реализованной в конкретной предикативной структуре текста (микропропозиции) в рамах процедур перевода литературно-художественного текста может оказаться факультативным по сравнению с самим содержанием того, что вслед за Т. ван Дейком и В. Кинчем мы назовем макропропозицией [2: 36-42] – аргумент в поддержку современных представлений о допустимости и даже обязательности вариативности переведенного текста в отношении к тексту оригинальному. Макропропозиция, лежащая в основе оригинального текста, как семантический инвариант, вполне может найти себя в различных переводах как вариантах. Именно поэтому описание макропропозициональной семантики подлежащего переводу текста является важнейшей частью и итогом предпере-водческого анализа.
Но каким образом возможно выйти на пропозициональное содержание литературно-художественного текста и из каких составляющих оно складывается? Остановимся на повествовательном тексте как типе текста, наиболее часто становящемся объектом перевода.
Основу повествовательного текста составляет событие (цепь событий) как важнейший элемент его нарративной структуры. При этом событие в повествовательном тексте характеризуется двойной онтологией. Напомним известную формулу М.М. Бахтина, из которой исходит современная нарратология. «Мы можем сказать, - пишет ученый, - и так: перед нами два события - событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели). <> .. при этом мы воспринимаем всю эту полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее моментов» [1: 403-404].
Самое сложное в понимании событийности повествовательного текста -осознание и более-менее точное описание «целостности и нераздельности», с одной стороны, и «всей разности» двух сторон этой событийности. Но, чтобы подойти к этому описанию, полезно сначала остановится на каждой из составляющих этой двойной онтологии.
Аналитический инструментарий. Как мы пытались показать в уже цитированной работе, в событии рассказывания как акте перехода актантом границы семантического поля участвует актант коммуникации (автор биографический, автор как внутритекстовая инстанция, нарратор, повествователь-рассказчик, читатель - номенклатура открытая и может быть дополнена). При этом границами семантического поля мы назвали границы, демаркирующие различные этапы литературного процесса как процесса разноуровневого: и границы литературных эпох, и границы парадигм художественности, и границы жанров (жанровых традиций), и границы поля действия тех или иных повествовательных моделей. Переходя эти границы, актант коммуникации и осуществляет событие рассказывания.
Событие, о котором рассказывается, есть компетенция актанта нарра-ции (о дифференциации актанта наррации и актанта коммуникации см.: [4: 15]) - персонажа, героя; именно он осуществляет переход через границу семантических полей. Эти семантические поля, становящиеся пространством события, «о котором рассказывается», интериоризированы художественным произведением, они есть часть его внутреннего мира и реализуются в микропропозициях, лежащих в основании предикативных структур, явленных в конкретных лексико-синтаксических структурах текста. Микропропозиции соотносятся с конкретными семантическими полями, переход между которыми осуществляется в сюжетных ходах, языковым воплощением которых являются актантно-предикативные структуры. Взаимодействие предикативных структур, равно как и взаимодействие стоящих за ними пропозиций (семантических полей), реализуется в процессе движения актанта наррации через разделяющие их границы, и на основе макроправил порождает макропропозиционные структуры, реализованные в полипредикативной конструкции всего текста. Макропропозиция в литературно-художественном тексте при этом не будет результатом простого сложения микропропозиций; взаимодействуя, микропропозиции порождают семантическую конструкцию, качественно отличающуюся от семантики конкретных пропозиций. При этом из того набора правил, которые предлагает теория дискурса, наиболее очевидным правилом формирования макропропозиций литературно-художественного текста будет правило построения: в данном случае, в отличие от тех случаев, когда «работают» правила опущения и обобщения, мы имеем дело с пропозицией (макропропозицией), «выведенной из всего репертуара пропозиций, входящих в эту последовательность» [2: 42-43]. Иными словами, макропропозиция литературно-художественного произведения не просто обобщает (складывает) семантику составляющих содержательность текста микропропозиций, и не упрощает ее, изымая (опуская) лишнее и факультативное. Речь идет о строительстве, то есть возведении на основе исходного материала микропропозиций качественно нового сооружения - ведь кирпич и структурно, и функционально принципиально отличается от здания, частью которого он становится в процессе построения (construction) [8].
Главный вопрос - как макропропозиция выводится из всего репертуара микропропозиций, каков механизм этого выведения.
На первом этапе анализа, чтобы оставить «за скобками» качественное отличие художественного повествовательного текста от повествовательного текста не-художественного (наличие - отсутствие эстетического объекта), в качестве примера можно использовать образчик ведущего жанра городского фольклора - современный анекдот (анекдот не в его классическом виде, как нечто «не опубликованное» из жизни значительного лица, причем, не обязательно смешное, а как аналог англоязычного жанра joke ). Именно в анекдоте такого типа, отшлифованном «народом» как коллективным рассказчиком, в наиболее чистом виде реализуются нарративные приемы качественного повествования.
Пример (1)
-
- Это Иванов. Как там моя жена?
-
- Иванов? Ваша жена умерла.
Пауза.
-
- Постойте! Вы Иванов Иван Иванович?
-
- Нет, Иванов Петр Сергеевич.
-
- Простите! Мы ошиблись. Ваша жена родила тройню.
Пауза.
-
- Иванов? Почему вы молчите?
Пауза.
-
- Иванов?
Пауза.
-
- Нет уж! Умерла, так умерла.
(из городского фольклора)
«Черный юмор» современного городского фольклора ничего общего не имеет с цинизмом как формой тотального отрицания базовых ценностей жизни и культуры. Погруженные в игровое начало, в стихию смеха, царящую в городском анекдоте, самые «мрачные» сцены - благодаря смеху - начинают служить не отрицанию жизни, а ее утверждению. «Смеху, - пишет В.Я. Пропп, - приписывается способность не только сопровождать жизнь, но и вызывать ее [7: 184]. Смех есть «”магическое” средство создания жизни» [7: 191]. Это соображение предохраняет нас от возможных обвинений в пренебрежении к базовым ценностям бытия и позволяет смело анализировать событие, о котором рассказывается в приведенном примере.
Анализ и интерпретация. Структура события, описываемого в примере (1) формируется конфликтным со-противопоставлением двух пропозиций, реа- лизованных в конкретных предикациях. Пропозиция 1: «Иванов сражен безвременной кончиной супруги» (пауза - обеспеченное ретардацией как нарративным приемом поле переживания, которое обязано быть протяженным; переживание нужно пере-жить). Пропозиция 2: «Иванов сражен неожиданным появлением тройни в своем семействе». Граница, разделяющая две пропозиции, разделяет, соответственно, два семантических поля. Если с содержанием первого все более-менее ясно - здесь доминирует, условно говоря (условно потому, что это - анекдот), мортальная семантика, то содержание второго поля в полной мере открыто лишь для сведущих: можно лишь предположить, что актант наррации ощущает себя физически, морально, материально неспособным перейти в семантическое поле, составляющими которого станут в катастрофических количествах представленные пеленки-распашонки, памперсы, иначе - пугающая перспектива ежедневной ответственности по выращиванию многочисленного потомства (гипертрофированная витальная семантика, усиленная - как и в первом случае - паузой как средством интенсификации переживания актанта нар-рации).
Таким образом, «челночное» движение актанта наррации между пропозициями (семантическими полями), реализованными в каждой из предикаций, формирует сложную макропропозицию: лучше смерть, чем непосильные домашние хлопоты. Понятно, смерть не самого Иванова - на этом и основан юмористический эффект анекдота о ленивом и пугливом муже.
Таким образом, макропропозиция в повествовательном тексте формируется в результате осуществляемого движением актанта конфликтного со-противопоставления формирующих его микропропозиций. Этот конфликт, будучи правилом, на основе которого реализуется логика взаимодействия микропропозиций, является одновременно и механизмом формирования макропропозиции, и ее содержанием. Уловить эту содержательность - задача предпереводческого анализа текста. Реализовать ее в тексте перевода - задача переводчика.
Как можно применить данную операцию в предпереводческом анализе литературно-художественного текста?
Пример (2)
Приведенные ниже фрагменты - отрывки из новеллы Э.А. По «Лигейя». В целях экономии места приведем краткий аналитический пересказ сюжета, опираясь на принципиальные событийные узлы новеллы. Нарратор (и, одновременно, актант наррации) женится на леди Лигейе, которая являет собой комбинацию физической красоты и интеллектуальной, духовной мощи. Дав возможность нарратору насладиться общением с Лигейей, затоком многих наук и искусств, автор заставляет его овдоветь и, через некоторое время, жениться на некоей леди Ровенне, которая, в свою очередь, также умирает и всю концовку новеллы лежит на смертном одре, претерпевая некие спазматические трансформации: то смерть овладевает чертами леди Ровенны (с весьма натуралистическими подробностями, на которые не скупится автор «Правды о том, что случилось с мосье Вальдемаром»), то, казалось бы, жизнь возвращается в бездыханное тело.
Событийные узлы новеллы - это и опорные точки микропропозиций, формирующих нарратив. Смерть леди Лигейи - первый из этих узлов, содержанием которого станет переход актантом наррации границы, разделяющей уже описанные нами семантические поля (витальная семантика → мортальная семантика):
“She died;—and I, crushed into the very dust with sorrow, could no longer endure the lonely desolation of my dwelling in the dim and decaying city by the Rhine (Она умерла, и я, сокрушенный печалью во прах, уже не мог долее выносить унылого уединения моего жилища в туманном ветшающем городе на Рейне – перевод И. Гуровой).
В следующем событийном узле, в процессе «челночного» движения между семантическими полями, актант наррации вновь пересекает границу, разделяющую семантические поля с мортальной и витальной семантикой, но уже в обратном направлении:
Let me speak only of that one chamber, ever accursed, whither in a moment of mental alienation, I led from the altar as my bride - as the successor of the unforgotten Ligeia - the fair-haired and blue-eyed Lady Rowena Trevanion, of Tremaine (Я буду говорить лишь о том во веки проклятом покое, куда в минуту помрачения рассудка я привел от алтаря как юную мою супругу, как преемницу незабытой Лигейи белокурую и синеглазую леди Ровену Тремейн из рода Тревейньон).
Смерть леди Ровенны – третий событийный узел новеллы, формируемый очередным переходом актанта наррации через описанные границы, и вновь от витальной к мортальной семантике:
Yet I cannot conceal it from my own perception that, immediately subsequent to the fall of the ruby-drops, a rapid change for the worse took place in the disorder of my wife; so that, on the third subsequent night, the hands of her menials prepared her for the tomb, and on the fourth, I sat alone, with her shrouded body, in that fantastic chamber which had received her as my bride (И все же я не могу скрыть от себя, что сразу же после падения рубиновых капель состояние Ровены быстро ухудшилось, так что на третью ночь руки прислужниц уже приготовили ее для погребения, а на четвертую я сидел наедине с ее укутанным в саван телом в тон же фантасмагорической комнате, куда она вступила моей молодою женой).
И, наконец, последний переход, легкость которого как раз и обеспечивается инерцией многократного челночного движения актанта наррации через границы семантических полей с витальной и мортальной семантикой – это движение перфорирует , делает проницаемыми данные границы, a priori (в рамках обыденного, а не романтически ориентированного мира и сознания) непроницаемые. При этом пауза, оформленная знаками препинания, является – через ретардацию – интенсификатором сюжетного развертывания, делает переход через границу семантических полей более эффектным и смыслосодержательным:
And now slowly opened the eyes of the figure which stood before me. "Here then, at least," I shrieked aloud, "can I never – can I never be mistaken – these are the full, and the black, and the wild eyes – of my lost love – of the lady – of the LADY LIGEIA." (И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры. – В этом... – пронзительно вскрикнул я, – да, в этом я не могу ошибиться! Это они – огромные, и черные, и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной... леди... ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!).
Явление леди Лигийи, воплощенной даже не в свое, а в чужое мертвое тело (она оказалась способной преодолеть не просто свою смерть, а Смерть как таковую), гипертрофирует витальную семантику, которая поглощает и дезавуирует семантику мортальную. И это выглядит настолько эффектно и убедительно, что, в отличие от актанта из первого примера, актанту наррации в «Ли-гейе» Э. По уже не удастся произнести: «умерла, так умерла…».
Выводы. Семантика событийности в повествовательном литературно-художественном тексте формируется на основе двух системно связанных друг с другом и, вместе с тем, отличных по своей природе пропозициональных структур. С одной стороны, это основанная на реализации поэтической функции языка (Р. Якобсон) макропропозиция «события рассказывания», которая формируется в ситуации соотнесения нарративных стратегий, лежащих в основании повествования, с внешним контекстом (литературная традиция, границы литературных эпох, парадигм художественности, границы жанров (жанровых традиций), границы поля действия тех или иных повествовательных моделей. Переходя эти границы, актант коммуникации осуществляет событие рассказывания. С другой стороны, это основанная на референтивной функции языка макропропозиция, формирующая эстетический объект. Данная макропропозиция активизирует не внешние, а внутренние ресурсы текста – на основе макроправил, которые применяются к элементарным пропозициям. Здесь мы имеем дело с реализованным событием, «о котором рассказывается». В процессе со-противопоставления семантики элементарных пропозиций присущая им имманентная семантика деактуализируется, вытесняется комбинаторной семантикой макропропозиции, которая выводит повествование – в отношении семантики – на качественно новый уровень. Семантика макропропозиции в литературно-художественном тексте является результатом не сложения семантики микропропозиций, как то свойственно тексту не-художественному (бытовому, научному, публицистическому и т.д.), а со-противопоставления и, как результат, произведения содержательности, которая количественно и качественно отличается от содержательности составляющих ее микропропозиций .
Список литературы "Событие, о котором рассказано в произведении" и его пропозициональная структура (вопросы предпереводческого анализа литературно-художественного текста)
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: "Художественная литература", 1975. 504 с.
- Дейк, ван, Т., Кинч В. Макростратегии // Т. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 308 с.
- Кацнельсон С. Д. Речемыслительные процессы // Вопросы языкознания. 1984. №4. С. 3-12.
- Миловидов В.А. Актант // Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной Intrada, 2008, С. 15.
- Миловидов В.А. Жумабек и Шарль Бовари: Пропозициональная структура "события рассказывания" в повествовательном тексте // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2019. № 2 (61). С. 108-114.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесённость с действительностью. М.: Наука, 1985. 272 с.
- Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: Издательство "Наука", 1976. 325 с.
- Dijk van, Teun A. Semantic Macro-Structures and Knowledge Frames in Discourse Comprehension URL: http://www.discourses.org/OldArticles/Semantic%20Macro-Structures%20and%20Knowledge%20Frames%20in%20Discourse%20Comprehension.pdf