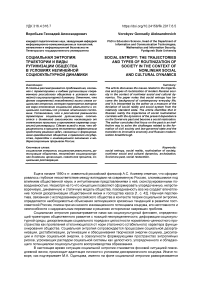Социальная энтропия: траектории и виды рутинизации общества в условиях нелинейной социокультурной динамики
Автор: Воробьев Геннадий Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблематика, связанная c траекториями и видами рутинизации современного российского общества в условиях нелинейной социокультурной динамики. Отмечено, что фоном современной повседневной жизни стала социальная энтропия, которая трактуется автором как мера отклонения социальной реальности и социальной системы от условно эталонного состояния. Установлено, что в российской реальности траектории социальной рутинизации соотносятся с динамикой зависимости настоящего от советского прошлого и принимают характер социальной реставрации. Сделан вывод о том, что обращенность в прошлое не является эффективным средством решения задач, связанных с формированием гражданского общества и правового государства, переходом к инновационной экономике и модернизационным прорывом России.
Социальная энтропия, социальная реальность, рутинизация общества, нелинейная социокультурная динамика, архаизация, советское прошлое, социальная реставрация
Короткий адрес: https://sciup.org/14941293
IDR: 14941293 | УДК: 316.4:316.7 | DOI: 10.24158/fik.2017.6.5
Текст научной статьи Социальная энтропия: траектории и виды рутинизации общества в условиях нелинейной социокультурной динамики
Еще в начале 1990-х гг. известный российский философ А.С. Ахиезер отмечал, что сформировалось глубокое несоответствие между взглядами на современную Россию, сложившимися под влиянием общественной науки, и интуитивными представлениями о ней, сконструированными повседневностью. Несмотря на то что концепции позволяют сформировать упорядоченную, непротиворечивую, динамичную и статичную модель общества, повседневность все же создает впечатление полной дезорганизации общественной жизни и господства хаоса [1, с. 42]. Научная перспектива, связанная с исследованием российского общества в контексте теории социальной энтропии, определяется необходимостью объяснения затянувшихся кризисных тенденций в развитии постсоветской России, поиска причин низкого инновационного потенциала социума, его неготовности и неспособности к кардинальным переменам и решению исторически назревших проблем.
Социальная энтропия рассматривается нами как социокультурный феномен, определяющий траекторию общественного развития с позиций неопределенности, деформации социокультурной среды, дезорганизации социального порядка и целостности нормативно-ценностного пространства как проявлений отклоняющегося от норм эталонного (стабильного) характера функционирования общества. Социальная энтропия сопровождается процессами социальной дезорганизации, дестабилизации, рутинизации и обесценивания творческой энергии социума, диссипации и потери социальной энергии, в совокупности формирующими пространство энтропийных рисков, угрожающих распадом социальной системы как целостного, упорядоченного и обладающего потенциалом социокультурного воспроизводства образования.
В настоящее время ситуация социальной энтропии становится фоновой ситуацией повседневной жизни, происходит адаптация личности к условиям дисгармоничного социума. Иначе говоря, как подчеркивает М.А. Одинцова, именно на фоне социальной энтропии разворачивается повседневная жизнь, создается жизненная история индивида: преодолеваются стрессы, формируются основные формы поведения личности и ее жизнестойкость, трансформируются личностные структуры, строятся смыслы, появляются цели и смысложизненные ориентации [2, с. 90–91].
Социальные траектории и виды рутинизации общества в пределах нелинейной социокультурной динамики воплощаются в его морфологии, то есть в формах и типах проявления в синхронном и диахронном планах, закономерностях строения и процессах формообразования. При этом социальные траектории рутинизации общества в пределах нелинейной социокультурной динамики не отличаются статичностью, они производны от культуры и подвержены динамическим изменениям в процессе общественного исторического развития [3].
В пределах подобной нелинейной социокультурной динамики рутинизация общества может быть определена как социальная ситуация, в которой социальная деятельность повторяется и может принимать характер заведенного порядка. Так, Э. Гидденс рассматривал рутинизацию в качестве устойчивости, регулярности, стабильности и предсказуемости неких образцов поведения во времени, благодаря которым поддерживается функционирование систем и институтов, а общество чувствует безопасность [4, с. 111–114]. В процессе развития человеческое сообщество постепенно понижает меру своей неупорядоченности посредством позитивной деятельности, достигая большего порядка, организованности, регламентации и управляемости. Характеризуя в подобном контексте нелинейную социокультурную динамику, С.А. Кравченко обращает внимание на то, что еще в конце XIX – начале ХХ в. общественное развитие рассматривалось в качестве «непрерывного прогресса по спирали», в процессе которого человечество переходило от низшей ступени к более высшей и совершенной, научно управляемой стадии своего развития. При этом развитие по спирали предполагает историческую преемственность, в рамках которой все позитивное от предыдущего этапа сохраняется, а негативное отмирает.
Существенный вклад в развитие идей и представлений о линейном развитии общества, признающем детерминизм внешних причинно-следственных связей, внесли К. Маркс и Э. Дюркгейм. На основе этих идей строились умозаключения о подчинении человеческого мироздания «объективным законам», в результате чего предпринимались попытки государственного планирования во всех сферах общественной жизни, утверждения общей, единой идеологии и морали, жесткого социального порядка и моногамной семьи. В рамках представлений о линейном общественном развитии «законы» рассматривались как обратимые во времени (другие народы последуют тем же путем), все отклоняющееся, случайное представлялось временным и преходящим, а все парадоксы социума виделись исключением [5, с. 66].
В тематику рутинизации общества в пределах нелинейной социокультурной динамики вписываются практики ограничения социальности и культуры. Ю.М. Резник исходит из того, что человеку надоедает, претит пребывание в социуме, налагающем сплошные ограничения, в результате чего человек, являясь субъектом творчества, не только постоянно инициирует социокультурные практики, но и сам подвержен системному воздействию и негативным последствиям социальных и культурных инноваций, инновационной деятельности. Таким образом, оказываясь в поле действия стандартов, моделей поведения, стереотипов и технологических новшеств социальности, человек вступает в противоречие с господствующей культурой [6, с. 179–180].
В свою очередь В.В. Михайлов отмечает, что изучение социальных ограничений позволяет отрефлексировать, осмыслить и прийти к пониманию таких значимых проблем, как социальная свобода, необходимость, мораль, право, взаимодействие личности и общества, общества и государства. Пока существуют человек и человечество, культура и общество, социальные нормы и ограничения, изучение данных вопросов будет сохранять свою актуальность [7, с. 5].
Рутинизация российского общества, когда социальная деятельность повторяется и может принимать характер заведенного порядка, накладывается на процессы возрождения, по мнению ряда исследователей, «феодальной» архаики. Архаизация подается как возврат к изжившим пластам культуры, элементам властных отношений, социальным практикам в пространстве социокультурного взаимодействия, осложненного противоречивыми процессами «воздействия современности». По мнению А. Рябова, феодальная архаика в российском обществе – это архетипические социальные практики, обусловленные старыми историческими образцами и воспроизводящие основополагающие черты этих практик. Но в то же время понятия «феодализм» и «феодальный» выступают объектом подражания и источником вдохновения для правящих элит и, следовательно, в данном контексте принадлежат к общественно-политической сфере и сфере социальных мотиваций [8, с. 3–4].
Обращает на себя внимание сформулированная В. Шляпентохом «феодальная модель», объясняющая типы социальной организации и модели политического поведения, существующие на протяжении многих столетий в любом обществе, но не поддающиеся объяснению с помощью иных моделей, в том числе авторитарной и либерально-демократической. Среди основных ин- ституциональных характеристик феодализма в рамках «феодальной модели» В. Шляпентох выделяет следующие: 1) наличие фрагментированных, конкурирующих друг с другом центров власти в контексте нехватки у государства возможности принуждения и политической автономии перед лицом частных интересов и локальных элит; 2) богатство и власть выступают ресурсами, эксплуатируемыми в частных интересах (политическая коррупция, «захват государства»); 3) патримониальная небюрократическая система управления, основанная на личных связях взаимной зависимости (отношения «сюзерен – вассал» в форме «клиентелизма») [9].
Проявление архаики можно рассматривать как отражение слабой готовности российского общества к инновациям, возможным рискам, связанным с изменениями, что и способствует стремлению найти опору не только в привычных формах общественного бытия, но и в глубинных архетипах массового сознания [10], и тогда рутинизация принимает характер социальной реставрации. Если мы обратимся к коллективной монографии «“Советское наследство”. Отражение прошлого в социальных и экономических практиках современной России», в которой прослеживается преемственность между советской и постсоветской эпохами, то убедимся, что социальные рутины и поведенческие практики, унаследованные от советского прошлого, оказались ценным ресурсом в сложных условиях переходного периода [11].
Характеризуя наследие советского периода в современной социальной реальности, В.П. Макаренко исходит из того, что современная Россия воспроизводит такие свойства советского прошлого, как связь власти и собственности, социальная несправедливость, социальное расслоение, всевластие политической бюрократии, неуважение прав человека, зависимость социальной науки от политики и идеологии. Современная Россия наследует опыт СССР, связанный с искажением и утаиванием информации, что привело к тому, что современная российская политика является средоточием лжи. Наблюдается возвращение к символам «закрытого общества», которые уже стали коммерческим продуктом, навязываемым гражданам России. Советская властная «легенда» усвоена массами [12, с. 79–81].
Таким образом, социальная рутинизация вписана в «системно воспроизводящийся механизм» и порождающую динамику зависимости настоящего от советского прошлого, что связано со стремлением удержать или воспроизвести в новой социальной реальности «фрагменты» прошлого, чтобы создать ощущение стабильности и устойчивости в настоящем. Е.А. Корнеева говорит о поклонении силе как способе ощутить собственную силу через идентификацию с ней: «Почему Homo post-soveticus так остро нуждается в переживании ощущения собственной силы? Потому что одно из его самых болезненных и нежелательных переживаний – ощущение собственного бессилия, перманентно присутствующего в сознании, как фон. Мы воспитываемся и формируем свое мировоззрение в среде, которая тонко или грубо, но систематически сообщает нам о нашем бессилии и неполноценности, что в сущности одно и то же» [13, с. 30–31].
Реставрация элементов советской социальной реальности сопровождается также очередным пересмотром исторического прошлого. Е.Ю. Рождественская и В.В. Семенова обращают внимание на то, что историческая память становится средством обеспечения интересов современных политических элит. Тремя точками континуума под названием «память» являются воспоминание, переработка и забвение. Культ «мест памяти», постоянные практики и ритуалы, связанные с переписыванием исторического прошлого, могут провоцировать живые отклики или вызывать полное равнодушие граждан, но постоянная апелляция к прошлому превращает его в часть настоящего и придает настоящему соответствующий смысл [14, с. 27–28].
Вслед за Е.А. Корнеевой можно согласиться с выводом о «гламуризации» всего советского в современной России, когда заботливо и добросовестно воссоздаются символика, эстетика и атмосфера СССР. В ходе гламуризации советской эпохи формируется безусловно позитивное восприятие атрибутов советского времени в целях создания возможности «импортировать» в сегодняшний день побольше советских стандартов и тем самым легитимизировать «сильную власть» и все, что ее поддерживает [15].
Социальные траектории рутинизации общества определяются тем, что современная Россия, как считает И.М. Клямкин, в очередной раз оказалась перед историческим модернизационным вызовом, на который невозможно ответить прежними принудительно-мобилизационными методами. Однако российская властная элита не привыкла давать других ответов, поэтому сейчас она, призывая к инновационному прорыву, апеллирует к милитаризму, пытаясь в очередной раз решить возникшие проблемы без политического участия общества. В этом и заключается особенность современной ситуации в России, которая оказалась на перепутье вызовов современности и выбора особого российского исторического пути [16, с. 139].
Таким образом, практика конструирования современной российской реальности оказывается все более явно «встроенной» в культурно-исторический контекст и вариативные уровни воспроизводства социальности, связанные с актуализацией исторического прошлого и необходимостью адаптации к вызовам и рискам современной эпохи.
Обстоятельства социальной энтропии в обществе становятся фоновой ситуацией повседневной жизни, в которой адаптация к условиям рутинизации общества предполагает обязательность воспроизводства повторяемой социальной деятельности, в пределах нелинейной социокультурной динамики российского общества вписывающейся в процессы архаизации, связанные с возвратом к изжившим пластам культуры, элементам властных отношений, социальным практикам в пространстве социокультурного взаимодействия, осложненного процессами «воздействия современности».
Проявление архаики ассоциируется с неготовностью общества к инновациям, слабой ориентированностью на инновации как формат социокультурной динамики, а в российской реальности траектории социальной рутинизации соотносятся с динамикой зависимости настоящего от советского прошлого как стремление удержать (воспроизвести) в новой социальной реальности «фрагменты» прошлого и вписываются в культурно-историческую традицию политического авторитаризма. На этом основании социальная рутинизация в России рассматривается как инструмент социальной реставрации, ресурсная база которой значительно расширяется по мере консервации кризисных явлений и процессов, роста социальной неопределенности, нестабильности и рискогенности социального пространства.
Социальная рутинизация вписана в «системно воспроизводящийся механизм» и порождающую динамику зависимости настоящего от советского прошлого. Причины реставрации элементов советской социальной реальности связаны с поиском властью оснований оправданности выбранного политического курса и повышения его устойчивости. В условиях постсоветской действительности происходит ностальгическая переоценка различных аспектов и сторон советского, прежде всего советского социального устройства, которое на фоне современной, социально не ориентированной политики российского государства воспринимается как некий эталон организации социального порядка и справедливо устроенного общества.
В условиях социальной реставрации на основе идеи «реванша прошлого» одной из самых актуальных становится тема, связанная с державными аспектами российской истории, величием российской цивилизации, ее имперским характером. Реставрация элементов советской социальной реальности сопровождается очередным пересмотром исторического прошлого, его переоценкой с точки зрения нужд и интересов правящей элиты, решения геополитических задач. Проблема заключается в том, что решению исторически назревших, декларируемых задач, связанных с формированием гражданского общества и правового государства, переходом к инновационной экономике и модернизационным прорывом России, обращенность в прошлое как основание для развития настоящего не поможет, так как необходимо соотнесение реально достижимых целей и задач общественного развития со способами их реализации. В современной России это фундаментальное основание устойчивого и эффективного развития, заключающееся в корреляции реального и идеального, практического и идейного, индивидуального и массового в пространстве формирования и реализации социальных и культурных практик, отсутствует, в результате чего нарастают энтропийные процессы.
Ссылки:
-
1. Ахиезер А.С. Дезорганизация как категория общественной жизни // Общественные науки и современность. 1995. № 6. С. 42–52.
-
2. Одинцова М.А. Жизнестойкость и смысложизненные ориентации студенческой молодежи в условиях энтропии современного российского общества // Мониторинг общественного мнения. 2012. № 2 (108). С. 90–96.
-
3. Lubsky A.V., Kolesnikova E.Y., Lubsky R.A. Mental Programs and Social Behavior Patterns in Russian Society // Interna tional Journal of Environmental and Science Education. 2016. Vol. 11, iss. 16. P. 9549–9559.
-
4. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2-е изд. М., 2005. 528 с.
-
5. Кравченко С.А. Нелинейная динамика: парадоксальные разрывы и синтезы социума // Вестник МГИМО. 2008. № 2. С. 66–76.
-
6. Резник Ю.М. Человек за границами культуры и социальности: трансперсональность как предмет социальной теории (метафизические основания) // Вопросы социальной теории : науч. альм. 2009. Т. III, вып. 1 (3). Социальность и культура в изменяющемся мире / под ред. Ю.М. Резника. М., 2009. С. 179–195.
-
7. Михайлов В.В. Социальные ограничения: структура и механика подавления человека. Изд. 4-е. М., 2011. 280 с.
-
8. Рябов А. Возрождение «феодальной» архаики в современной России: практика и идеи [Электронный ресурс] // Московский фонд Карнеги. 2008. № 4. (Серия «Рабочие материалы»). URL: http://www.intelros.ru/pdf/Reyting/rybov2.pdf (дата обращения: 29.05.2017).
-
9. См.: Шляпентох В. Современная Россия как феодальное общество. Новый ракурс постсоветской эры. М., 2008. 368 с.
-
10. The Lifestyle in the Development of Ideological Policy / V.V. Chernous, A.K. Degtyarev, A.V. Lubsky, O.Y. Posukhova, Y.G. Volkov // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6, no. 5. P. 58–63.
-
11. См.: «Советское наследство». Отражение прошлого в социальных и экономических практиках современной России / под ред. Л.И. Бородкина, Х. Кесслера, А.К. Соколова. М., 2010. 384 с.
-
12. Макаренко В.П. Проблема когнитивного сопротивления // Политическая концептология. 2012. № 2. С. 79–88.
-
13. Корнеева Е.А. Царство Путина. Неосталинизм по просьбам народа. СПб., 2011. 208 с.
-
14. Рождественская Е.Ю., Семенова В.В. Социальная память как объект социологического изучения // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2011. № 6. С. 27–48.
-
15. Корнеева Е.А. Указ. соч.
-
16. Интеллектуалы и демократия: российский и польский взгляд / под общ. ред. И.М. Клямкина. М., 2009. 144 с.
Список литературы Социальная энтропия: траектории и виды рутинизации общества в условиях нелинейной социокультурной динамики
- Ахиезер А.С. Дезорганизация как категория общественной жизни//Общественные науки и современность. 1995. № 6. С. 42-52.
- Одинцова М.А. Жизнестойкость и смысложизненные ориентации студенческой молодежи в условиях энтропии современного российского общества//Мониторинг общественного мнения. 2012. № 2 (108). С. 90-96.
- Lubsky A.V., Kolesnikova E.Y., Lubsky R.A. Mental Programs and Social Behavior Patterns in Russian Society//International Journal of Environmental and Science Education. 2016. Vol. 11, iss. 16. P. 9549-9559.
- Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2-е изд. М., 2005. 528 с.
- Кравченко С.А. Нелинейная динамика: парадоксальные разрывы и синтезы социума//Вестник МГИМО. 2008. № 2. С. 66-76.
- Резник Ю.М. Человек за границами культуры и социальности: трансперсональность как предмет социальной теории (метафизические основания)//Вопросы социальной теории: науч. альм. 2009. Т. III, вып. 1 (3). Социальность и культура в изменяющемся мире/под ред. Ю.М. Резника. М., 2009. С. 179-195.
- Михайлов В.В. Социальные ограничения: структура и механика подавления человека. Изд. 4-е. М., 2011. 280 с.
- Рябов А. Возрождение «феодальной» архаики в современной России: практика и идеи //Московский фонд Карнеги. 2008. № 4. (Серия «Рабочие материалы»). URL: http://www.intelros.ru/pdf/Reyting/rybov2.pdf (дата обращения: 29.05.2017).
- Шляпентох В. Современная Россия как феодальное общество. Новый ракурс постсоветской эры. М., 2008. 368 с.
- The Lifestyle in the Development of Ideological Policy/V.V. Chernous, A.K. Degtyarev, A.V. Lubsky, O.Y. Posukhova, Y.G. Volkov//Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6, no. 5. P. 58-63.
- «Советское наследство». Отражение прошлого в социальных и экономических практиках современной России/под ред. Л.И. Бородкина, Х. Кесслера, А.К. Соколова. М., 2010. 384 с.
- Макаренко В.П. Проблема когнитивного сопротивления//Политическая концептология. 2012. № 2. С. 79-88.
- Корнеева Е.А. Царство Путина. Неосталинизм по просьбам народа. СПб., 2011. 208 с.
- Рождественская Е.Ю., Семенова В.В. Социальная память как объект социологического изучения//Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2011. № 6. С. 27-48.
- Интеллектуалы и демократия: российский и польский взгляд/под общ. ред. И.М. Клямкина. М., 2009. 144 с.