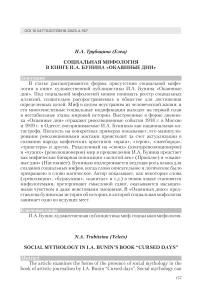Социальная мифология в книге И.А. Бунина «Окаянные дни»
Автор: Трубицина Н.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются формы присутствия социальной мифологии в книге художественной публицистики И.А. Бунина «Окаянные дни». Под социальной мифологией можно понимать реестр социальных иллюзий, сознательно распространяемых в обществе для достижения определенных целей. Миф в целом неустраним из человеческой жизни, и его многочисленные социальные модификации выходят на первый план в нестабильные этапы мировой истории. Выстроенные в форме дневника «Окаянные дни» отражают революционные события 1918 г. в Москве и 1919 г. в Одессе, воспринимаемые И.А. Буниным как национальная катастрофа. Писатель на конкретных примерах показывает, что манипулирование революционными массами происходит за счет актуализации в сознании народа мифических архетипов «врага», «героя», «змееборца», «трикстера» и других. Разделенный на «своих» (контрреволюционеров) и «чужих» (революционеров) мир в произведении И.А. Бунина предстает как мифическая бинарная оппозиция «золотой век» (Прошлое) и «окаянные дни» (Настоящее). Буниным подчеркивается ведущая роль языка для создания социальных мифов, когда слово описательное и логическое было превращено в слово магическое. Автор показывает, как некоторые слова («революция», «буржуазия», «капитал» и т.д.) в новом языке становятся мифологемами, претерпевают смысловой сдвиг, оказываются насыщенными чувством и даже неистовыми эмоциями. В «Окаянных днях» представлена бунинская история об истории, в которой социальная мифология занимает одно из ведущих мест.
И.а. бунин, художественная публицистика, миф, социальная мифология
Короткий адрес: https://sciup.org/149144071
IDR: 149144071 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-167
Текст научной статьи Социальная мифология в книге И.А. Бунина «Окаянные дни»
Книга художественной публицистики И.А. Бунина «Окаянные дни» представляет собой описание и осмысление автором трагических событий русской истории, произошедших в стране в 1918–1919 гг. Произведение неоднократно становилось предметом научного изучения. Отдельные главы в монографиях Ю.В. Мальцева «Бунин» и О.Н. Михайлова «Жизнь Бунина. Лишь слову жизнь дана…» посвящены теме «Окаянных дней». Как отметит О.Н. Михайлов, «беспощадными мазками рисует Бунин картину великой смуты, несущей чисто русские, национальные черты, когда свобода внешняя опережает и душит внутреннюю свободу» [Михайлов 2002, 300].
Представленные в виде дневниковых записей, «Окаянные дни» имеют сложную жанровую структуру. Изучавший данный вопрос Е.Р. Пономарев считает, что текст «Окаянных дней» движется от «непосредственных впечатлений к эпической картине “погибели Русской земли”, используя, помимо дневника, целый ряд жанровых форм» [Пономарев 2019, 210]. Ученый констатирует использование Буниным таких жанров, как цикл публицистических очерков, художественный пересказ, подборка цитат, воспоминания, эпидейктические формы (восходящие к древнерусским памятникам). Текст «Окаянных дней» Е.Р. Пономарев назовет «синтетическим».
А.В. Бакунцев, выявляя характер литературных трансформаций, которым Бунин подвергал исходный фактический материал, ссылаясь на Д. Риникера, также отметит синтетичность бунинского текста, ибо он «обладает одновременно документальными, публицистическими и художественными чертами» [Бакунцев 2013, 24]. Исследователь делает вывод: «Условно его жанр можно было бы обозначить как документальный роман-эссе, в котором подлинные исторические факты не только рассматриваются и толкуются автором с сознательной, сугубой субъективностью и пристрастностью, но еще и нерасторжимо переплетены, а местами и сращены с вымыслом, так что порой трудно определить, где кончается одно и начинается другое» [Бакунцев 2013, 27].
Выявляя семантическую связь бунинского «художественного дневника» с различными культурными кодами (историческим, библейским, философским, политическим и др.), буниноведы осуществляют продвижение к раскрытию действительного смысла «Окаянных дней», но текст неисчерпаем в своей смысловой глубине. Поэтому, на наш взгляд, для углубленного и всестороннего анализа произведения возможно применение еще одного культурного кода – социально-мифологического. Использование этого кода позволяет не просто рассмотреть бунинское произведение с культурно-исторической точки зрения, но и проследить глубинные ментальные основы человеческого мировоззрения и мировосприятия, формирующиеся на рациональных и иррациональных началах.
Неустранимость мифа из человеческой жизни признают в настоящее время практически все исследователи художественного творчества, а также культурологи, антропологи, социологи. Е.М. Мелетинский отмечает, что в современной социологии «употребляют термин миф, чтобы обозначить, с одной стороны, иллюзию, ложь, пропаганду, но, с другой стороны, также представление известных ценностей в фантастической форме или догматизированных, сакрализованных и т.п.» [Мелетинский 2001, 13]. В целом, под социальной мифологией можно понимать реестр социальных иллюзий, сознательно распространяемых в обществе для достижения определенных целей.
В работе «Техника политических мифов» Э. Кассирер напишет: «Во времена мира и спокойствия, в периоды относительной устойчивости и безопасности не так уж трудно поддерживать разумный характер общественного устройства. Но мы всегда живем на вулкане и должны быть готовы к внезапным потрясениям и извержениям. В критические моменты общественно-политической жизни миф вновь обретает свою вековую силу. Он постоянно таится на заднем плане, ожидая своего часа. Этот час наступает, если другие связующие силы общества по той или иной причине утрачивают свое влияние и уже не могут противостоять демонической власти мифа» [Кассирер 1993, 155].
«Окаянные дни» запечатлевают в себе один из переломных моментов русской истории, время очередного переворота отечественной культуры, период резкой смены ценностно-смысловой парадигмы. Автор пытается рационально осмыслить происходящие события, выявить причинно-следственные связи новых революционных потрясений. Проявляя необыкновенную трезвость ума в оценках сложившейся на тот момент ситуации, занимаясь фактически «демифологизацией» революционной пропаганды, сам писатель невольно (или скорее подсознательно) оказывается во власти мифа. Он констатирует, что непосредственно выжить в этих непростых обстоятельствах ему помогли только надежда и вера в чудо. «Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру, – такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные» [Бунин 1994, 335].
Разделенный на «своих» (контрреволюционеров) и «чужих» (революционеров), мир в произведении И.А. Бунина предстает как мифическая бинарная оппозиция «золотой век» (Прошлое) и «окаянные дни» (Настоящее). Для не принявшей революцию части народа лучшее время осталось в прошлом, и их заветная мечта – это прошлое восстановить. Надежда на возврат к былому связана с победой белого движения и поражения большевиков, и жажда этой победы вызывает к жизни иррациональное поведение: «Какая у всех свирепая жажда их погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга» [Бунин 1994, 335].
Налицо древнее ветхозаветное мироощущение (талион), которое смыкается с вредоносной языческой магией. «В психологическом отношении вера в магию всегда представляет собой двойственное, противоречивое явление. В ней сочетаются отчаяние и неколебимая надежда. Человек ощущает глубокое неверие в себя, в свои личные способности. В то же время он сверх меры верит в могущество коллективных желаний и действий» [Кассирер 1993, 156]. Не случайно в упомянутых фрагментах «Окаянных дней» речь идет не от первого лица. Коллективное «мы» и глаголы в форме второго лица (ложишься, крестишься, молишься) в данном контексте обозначают действия любого человека. Такая форма часто встречается в пословицах, закрепляющих извечную народную мудрость. Это обобщение необходимо для усиления коллективного магического воздействия, в данном случае – вредоносного.
Что касается «второй половины Одессы», то там тоже действуют свои, и тоже мифологические законы. Здесь имеет место другое, но не менее остро выраженное коллективное желание – это мечта о земном рае, которая связана с мифологемой «Светлое будущее». Какое это будущее, народ имеет представления достаточно смутные. «Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок и один говорит другому:
– А Петербург весь под стеклянным потолком будет… Так что ни снег, ни дождь, ни что…» [Бунин 1994, 360]. Художественный мотив «стеклянного потолка» рождает аллюзию на замятинское Единое Государство из романа-антиутопии «Мы», где образ «незыблемого, вечного» стекла стал символом человеческой несвободы.
Метафизическую формулу «скачок в светлое будущее» новая власть делает программой государственной деятельности, используя для этого мифологический прием словесной активности, «словоблудства», как говорил Бунин. «“Блок слышит Россию и революцию, как ветер...” О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем» [Бунин 1994, 330].
Исследователи отмечают, что первым необходимым шагом для создания политических мифов является изменение функции языка. Если в обычной речи слова имеют двойное назначение – описательное и эмоциональное – и обе функции языка находятся в гармоническом равновесии, обеспечивая единую цель социального общения и взаимопонимания, то в языке, порожденном социальной мифологией, этот баланс нарушен. Весь упор перешел теперь на эмоциональную функцию языка; слово описательное и логическое было превращено в слово магическое. Это изменение функции языка остро почувствовал Бунин. Еще в начале прихода к власти большевиков, находясь в Москве, он делает характерную запись: «Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, – почему именно “легион”? Какое обилие новых и все высокопарных слов! Во всем игра, балаган, “высокий” стиль, напыщенная ложь...» [Бунин 1994, 307].
Слова «революция», «буржуазия», «капитал» и другие в новом языке становятся мифологемами, претерпевают смысловой сдвиг, оказываются насыщенными чувством, а то и неистовыми эмоциями. «Во “Власти народа” передовая: “Настал грозный час – гибнет Россия и Революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!” – Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?» [Бунин 1994, 305]. Постановка в публикации в один ряд России и Революции с заглавной буквы делают их атрибутивно тождественными, позволяющими национальный патриотизм перенести и на революционное движение. Лучезарность как одно из высших проявлений света активизирует традиционную мифологическую оппозицию «свет – тьма». Гибель революции равна исчезновению светлого мира и воцарению тьмы.
Рождение революционного мифа проистекает из иных условий, нежели рождение мифа первобытного. Ранее миф считался продуктом некоей бессознательной социальной деятельности. Новые политические мифы уже не являлись дикими плодами богатого воображения. Миф XX в. создавался хладнокровными мыслителями, мастерами политического расчета. Именно эту мысль постоянно подчеркивает Бунин: «Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, – пусть она неизбежна, прекрасна, все, что угодно. Но не врите на народ...» [Бунин 1994, 321].
Чтобы навязать целой стране новое мифологическое мышление, необходим был продуманный план. Нужно было разработать невиданную ранее технику властвования, и люди, пришедшие к власти, должны были проявить невиданный дотоле политический расчет, принести в массы новую, иррациональную религию, оставаясь при этом далекими от иррационализма. Бунин разоблачает этот замысел: «Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: “Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм!” и вывеска эта еще долго будет висеть – пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно:
За народ, народ, народ, За святой девиз вперед!..
Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно они направляют свои стопы, и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа» [Бунин 1994, 368–369].
Враг воспринимается в символической форме «мирового зла». В качестве героев выступают большевики, пытающиеся построить «новый мир», сотворить из «буржуазного» хаоса коммунистический «космос». Змея-дракона, олицетворяющего зло, надо не только победить, но и уничтожить. А для этого все средства хороши. Но, прежде всего, герой должен персонифицироваться. Образ «вождя мировой революции», Ленина, тогда только приобретал статус культурного героя. Но Бунин дальновидно заметит: «Ведь шел у нас тогда пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские... И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным...» [Бунин 1994, 350].
Образы площадных шутов отсылают нас к архаическому мифу о трикстере – демоническом существе, отличающемся своими злыми выходками. Дух трикстера особо явственно проявлялся в средневековых «праздниках дураков», где превалировала подлинно языческая оргия разрушения. Но если средневековый карнавал относительно быстро заканчивался возвращением социума в лоно церкви, а смеховое «посажение» на трон дурачка должно было показать лишь абсурдность и нелепость спутанного карнавального мира (антимира), то в русской истории все обстояло иначе. Придя к власти, новые правители отказались от эпатажа и быстро «примерили» себе маски культурных героев. Не случайно герой русской сказки начинает свой путь как Иван-дурак, а заканчивает как Иван-царевич. Вождизм Ленина и воспевание вождя и революции Маяковским были еще впереди, однако Бунин прозорливо разглядел, что именно им суждено стать главными создателями новой социалистической идеологии и новыми культурными героями с собственными мономифами.
Сложно переоценить роль прессы в становлении новой социальной революционной мифологии. Не случайно так много газетных цитат включает писатель в свое произведение. «Величайший из мошенников и блюдолизов буржуазии, Вильсон, требует наступления на север России. Наш ответ: Лапы прочь! Как один человек, все мы пойдем доказать изумленному миру… Только лакеи останутся за бортом нашего якоря спасения…» [Бунин 1994, 369]. Оскорбительные эпитеты, ругательный тон, идиоматический язык формируют восприятие текста не на уровне факта, а на уровне эмоции. И снова коллективное «мы», противостоящее не просто одному человеку, а главному врагу – буржуазии.
Буржуазия предстает как самая враждебная сила, мешающая сделать скачок в прекрасное будущее. «Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н.Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем: – Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите!» [Бунин 1994, 306]. «– Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же, предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. <…> Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой, дурной стрельбы не будет, будет стрельба только деловая – в контрреволюцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить!» [Бунин 1994, 312]. Таким образом, в формирующемся политическом сознании простого народа «буржуазия» из социальной страты превращается в мифологему, олицетворяющую мировое зло, которое подлежит тотальному уничтожению.
Если древнерусская архитектура считалась «каменной азбукой христианства», то азбукой новой революционной религии становится политический плакат. «На Дерибасовской новые картинки на стенах: матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами – буржуя; подпись: “Ты давил нас толстой пузой”; огромный мужик взмахнул дубиной, а над ним взвила окровавленные, зубастые головы гидра; головы все в коронах; больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, в сбитой набок короне голова Николая II; из-под короны течет полосами по щекам кровь…» [Бунин 1994, 381].Так происходит визуализация мифологической символики. Для не читающей газет публики подобные картинки разъясняют все тот же образ классового врага.
В этих агитационных плакатах налицо эксплуатация архаического мифа о змееборчестве. Здесь намеренно актуализируется бинарная оппозиция «герой – враг». Конкретное представление о враге неотделимо от общего демонологического фона. Анализируя концепт «внутреннего врага», Н.Г. Щербинина приходит к выводу: «Он – зло по сути вещей, вредительство – его основное занятие, он клеветник по призванию, всегда подкуплен (агент зла), замаскирован под “своего”. Наконец, как политический враг он еще и “преступный элемент”», т.е. враг архаического толка, когда не разграничиваются моральные и юридические нормы» [Щербинина 2002, 111].
Бунин неоднократно цитирует публикации новых периодических изданий, в которых образ врага своими истоками восходит к архетипу «змея-зла»: «Авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, маменькиных сынков, Григорьев, открыл свою настоящую личину, окружил себя стаей черных воронов с засаленными рожами…» [Бунин 1994, 362]. Или: «С Колчаком едет Михаил Романов... едет на старой тройке: самодержавие, православие, народность... несет еврейские погромы, водку... Колчак поступил на службу к международным хищникам... чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд Джорджа билась в судорогах истощенная страна... Колчак ждет, когда сумеет пить кровь рабочих...» [Бунин 1994, 374].
Инфернальность контрреволюционеров (рожи, личины, кровопийцы и т.д.) дополняется другими негативными чертами, например, такими, как пьянство. Во всех приведенных автором цитатах из новых газет многочисленно упоминаемый атаман Григорьев обязательно имеет эпитет «пьяница». Таким образом происходит дискредитация контрреволюционных вождей, в силу своих пороков не имеющих возможности принимать адекватные решения, а уж тем более вести за собой народ.
Но и сам автор в отношении вождей большевистских применяет те же приемы максимального очернения, иногда основанного на слухах и домыслах: «О Подвойском, от человека, близко знающего его: “Тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины…”» [Бунин 1994, 374]. О Ленине: «Речь Ленина. О, какое это животное!» [Бунин 1994, 320]. О Маяковском: «Маяковского звали в гимназии Идиотом Полифемовичем» [Бунин 1994, 320]. Поданное короткой репликой суждение концентрирует в себе весь спектр негатива, отрицательных качеств, закрепляемых за личностью, воспринимаемой не просто как антагонист и непримиримый враг, но и как либо сильно ущербный человек, либо вовсе «не человек», нелюдь, животное.
Социальная мифология активизируется в периоды, когда и общественная, и бытовая сторона жизни выбиваются из привычных рамок, лишаются обыденности. Английский антрополог Б. Малиновский из своих полевых наблюдений за жителями Тробрианских островов, находящихся на первобытной стадии развития, делает вывод о том, что даже в традиционном обществе есть определенная сфера деятельности, которую можно назвать «мирской» или «профанной». «Есть набор правил, передаваемых из поколения в поколение и определяющих многое в повседневной жизни людей: как они устраивают свои маленькие жилища, добывают огонь трением, находят и готовят пищу, занимаются любовью и ссорятся... Эта практическая, “мирская” традиция носит гибкий, избирательный и целесообразный характер» [Малиновский 1998, 85]. Малиновский подчеркивает, что пока человек действует в пределах этой сферы, он почти не руководствуется соображениями мифологического характера. Но когда приходится иметь дело с более серьезными и трудными задачами, превышающими уровень его личных возможностей, человек вынужден искать для защиты более мощные средства, и тут на помощь приходит миф.
Бунин обобщает пережитое: «И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну, хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное , что-нибудь просто другое!» [Бунин 1994, 344]. Автор постоянно подчеркивает, что встречающиеся человеческие лица лишены обыденности, простоты. «Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем» [Бунин 1994, 344]. Простой человек выбит из своей привычной колеи; он стал заложником новых обстоятельств, в которых пытается разобраться.
Осмыслить самостоятельно сложные исторические процессы ему не под силу, и тут на помощь приходят внешние силы, дающие объяснения в русле мифа.
Бунин одним из первых отечественных мыслителей выступил с критикой новой социальной мифологии. Со страниц «Окаянных дней» открывается некая история об истории, и повествование это сплошь и рядом насыщено мифоэлементами. Ведущая бинарная оппозиция, красной нитью проходящая через все произведение, – это «золотой век» (Прошлое) и «окаянные дни» (Настоящее). «Окаянный», по Далю, значит «проклятый, нечестивый, изверженный, отчужденный, преданный общему поруганью» [Даль 2006, 432]. Это бунинская аксиология, оценка событий, вынесенная в заглавие. Как отметит Ю.В. Мальцев, Бунин с его «чувственным восприятием мира и необыкновенным уменьем передать увиденное» дает нам возможность «лучше почувствовать, что на самом деле происходило тогда в России, чем тома исторических исследований» [Мальцев 1994, 250].
Несмотря на всю «пристрастность», «Окаянные дни» созданы автором не из чувства ненависти и злобы к России, а из чувства гражданского долга, пронизаны глубокой любовью к Отечеству и острой болью за нравственное падение народа. Для Бунина книга «Окаянные дни» – осуществление социального назначения литературы.
Список литературы Социальная мифология в книге И.А. Бунина «Окаянные дни»
- Бакунцев А.В. «Окаянные дни»: особенности работы И.А. Бунина с фактическим материалом // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2013. № 4. С. 22-36.
- Бунин И.А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6. М.: Сантакс, 1994. 416 с.
- Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современная версия. М.: Эксмо, 2006. 575 с.
- Кассирер Э. Техника политических мифов // Октябрь. 1993. № 7. С. 153-164.
- Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефлбук; CEU, 1998. 288 с.
- Мальцев Ю.В. Иван Бунин. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1994. 432 с.
- Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М.: РГГУ, 2001. 169 с.
- Михайлов О.Н. Жизнь Бунина: Лишь слову жизнь дана. М: Центрполиграф, 2002. 491 с.
- Пономарев Е.Р. «Окаянные дни» И.А. Бунина: история текста // Русская литература. 2019. № 3. С. 196-209.
- Щербинина Н.Г. Герой и антигерой в политике России. М.: Весь Мир, 2002. 116 с.