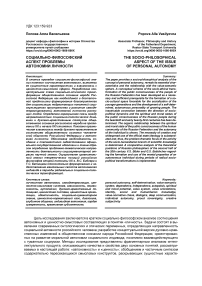Социально-философский аспект проблемы автономии личности
Автор: Попова Алла Васильевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен социально-философский анализ понятия «личностная автономия», выявлены ее сущностные характеристики и взаимосвязь с ценностно-смысловой сферой. Разработана концептуальная схема социально-этической трансформации общественного сознания народа Российской Федерации как необходимой и достаточной предпосылки формирования благоприятного для социализации подрастающих поколений социокультурного пространства и развития самодетерминированной, автономной личности растущих людей. Определена неразрывная связь между направленностью социально-политической динамики и духовно-нравственным статусом общественного сознания российского народа на протяжении XX и начала XXI столетия. Показана органическая взаимосвязь между духовно-нравственным состоянием общественного сознания человеческой общности Российской Федерации и автономией личности. Обоснована необходимость создания и повсеместного задействования официальной государственной идеологии и таким образом определена проблемно-тематическая направленность деятельности социогуманитарной отрасли научной знания. Осуществлен сравнительный анализ теоретических позиций российских философов второй половины XX в. В.С. Библера и Г.С. Батищева относительно формирования и задействования ментальных свойств автономного индивида в периоды радикальных социально-политических трансформаций.
Личностная автономия, самодетерминация, ценностно-смысловая система, зависимость, независимость, аутопейзис, духовно-нравственный потенциал, ценностная система, ценностные ориентации, идентичность, социально-гуманитарное знание, ценностно-нормативный хаос, диалогика, глубинное общение, индивидная автономия, гордая суверенность, креативная субъектность
Короткий адрес: https://sciup.org/149134747
IDR: 149134747 | УДК: 123:159.923 | DOI: 10.24158/fik.2020.12.5
Текст научной статьи Социально-философский аспект проблемы автономии личности
Associate Professor, Philosophy and History of the Fatherland Department, Rostov State Transport University
Цель исследования заключается в кратком социально-философском анализе соотношения автономных и ценностно-смысловых составляющих в понятии «личность». Задачи состоят в выявлении современных онтологических и этических переменных, определяющих направленность социальной активности российского человека; разработке концептуальной версии духовно-нравственных изменений в общественном сознании народа Российской Федерации, ориентированных на развитие моральной автономии социального индивида, позитивно взаимодействующего с гуманным социумом. Методы исследования представлены фрагментарным анализом интеллектуального продукта, описывающего качества и свойства двух основных понятий, рассматриваемых в настоящей работе: «автономность» и «ценность»; обобщением и частичным синтезом содержательно пересекающихся смысловых конструктов, раскрывающих сущностные характе- ристики изучаемого предметно-тематического поля. Также используется логический метод – осуществление абстрактного дискурса, ориентированного на концептуальное конструирование описательно-объяснительной характеристики современного социального взаимодействия в контексте его духовно-нравственного измерения.
Жестко идеологически центрированная мировая неолиберальная элита с бурным развитием информационных технологий обрела поистине безграничные возможности для решения одной из основных своих задач – деперсонализации личности и «атомизации» социального взаимодействия [1]. Транснациональные компании вслед за успешным экономическим «уничтожением» национальных государств, завладением их природными ресурсами определили экспансионистскую задачу превращения граждан подвластных геополитических пространств в социальных рабов [2]. Социогу-манитарное знание Соединенных Штатов Америки и Западной Европы выродилось в парадоксально экстравагантный постмодернизм, провозгласивший «смерть субъекта» – самодостаточных граждан. Либерализм, являвшийся в эпоху классического модерна олицетворением свободы человека и предпринимательства, превратился в ярого борца с правами и свободами граждан. Ключевая социальная «мишень» этой бесчеловечной стратегии – автономная суверенная личность с присущей ей духовно-нравственной идентичностью [3]. Обнадеживающий геополитический контекст рассматриваемой проблемы заключается в том, что половина мирового сообщества – Китай, Индия, Россия и ряд иных государств – относительно благополучно пребывает вне зоны влияния антигуманной социально-политической стратегии англосаксонского мира.
Объем статьи не позволяет осуществить полноценный историко-философский анализ изучаемого вопроса, тем не менее важно отметить, что начало интеллектуальной «истории» личностной автономии было положено И. Кантом в работах «Основоположение к метафизике нравов» и «Критика практического разума». Главными составляющими личностной автономии, согласно И. Канту, И. Фихте, Ф. Шеллингу, являются самоопределение, разумность, свобода, независимость. Классик немецкой философии Ф. Гегель разделял ценности на материальные и духовные [4].
Основным критерием оценки личностной автономии как социального феномена выступает смысловое пространство, располагающееся между означаемыми «зависимость» и «независимость» [5]. Определяющую роль в развитии качеств и свойств, составляющих фундамент независимости и личности, играет социальный институт образования. Именно в рамках образовательной деятельности должны развиваться потребности, интересы и ценности растущего человека, способствующие формированию соответствующей самодетерминированной стратегии жизненного пути, а также тактик (моделей) поведения в типичных социальных обстоятельствах. Однако методология и технологии практически всей мировой системы образования ориентированы на прямо противоположные целевые приоритеты. Архаично-схоластическое содержание образования рассчитано на подготовку послушного исполнителя и грамотного потребителя в пределах политической лояльности и социально-этического конформизма. Для того чтобы сформировать автономную и самостоятельную личность, необходимо в качестве содержательного результата образовательной деятельности использовать качественно определенную модель зрелого человека. Мы целиком и полностью разделяем следующее умозаключение Э.Ю. Майковой, справедливо считающей важным и необходимым «конструировать автономное, независимое, аутентичное, суверенное бытие и соответствующие модели поведения. Это, в свою очередь, способствует корректировке таких внутриличностных качеств, как самотождественность, идентичность, рефлекcивность, персональная ответственность, доверие» [6, с. 76]. Тем не менее в настоящее время система образования выполняет негласный социальный заказ, состоящий в подготовке работников, солдат, налогоплательщиков и в целом законопослушных граждан. В последнее время коллективный российский финансовый капитал настоятельно рекомендует государству расширить сегмент содержания образования, который позволил бы готовить более квалифицированных потребителей банковских услуг.
Более того, маниакальная информатизация и тому подобные достижения современного научно-технического прогресса, сулящие создать роботизированный рай на планете, в перспективе загонят «молчаливое большинство» в чипизированно-цифровой «ад». Эта безрадостная социальная перспектива не способствует ни становлению автономной личности, ни порождению принципиально нового типа общественных отношений и социально-экономического устройства, конструируемых на гуманной ценностно-смысловой системе. Российский исследователь Р.Ю. Кравченко отмечал, что действительная личностная автономия заключается в своеобразном сочетании в социальной активности человека в зависимости от социума и самодостаточной независимости. Однако для реализации данного положения со стороны культурной среды и большей части институтов социального организма требуется пристальное внимание к воспитанию и развитию каждого человека. В контексте современных теорий социализации, самореализации и аутопейзиса – самопроектирования –
«выявляется конструктивная роль личностного сознания по отношению к личностному бытию, свидетельствующая о самодетерминации человеческого духа в личности» [7, с. 131].
Исходя из изложенного, вполне закономерно сделать следующее эпистемологическое и социально-практическое умозаключение. Проблема автономности личности имеет солидную историко-философскую подоплеку и не менее серьезную теоретическую проработку как в различных сугубо философских специальных отраслях – этике, философской антропологии, религиоведении и т. п., так и в современном отечественном и зарубежном социально-гуманитарном знании в целом – социальной педагогике, социологии, психологии и т. п. Представляется, что адекватная оптимизация сегмента социальной динамики, связанной с формированием позитивной автономии личности, возможна только в качественно обновленной социально-практической сфере. Главным движителем позитивных изменений в этом направлении должна быть добрая воля социального руководства относительно гуманистической социокультурной трансформации. Социально-этическая самодетерминация может быть основой индивидуальной социальной активности при сформированной в обществе соответствующей духовно-нравственной «атмосфере» [8]. Для ее создания нужно осуществить комплекс законодательных, институциональных, социально-этических преобразований. В качестве системообразующей основы такого рода изменений представляется духовно-нравственный инвариант общественного сознания полиэтнического народа Российской Федерации. Содержательный результат подобного ценностно-смыслового интеллектуального продукта является универсальной методологической базой нормативно-правового, социально-этического концептуального конструирования социокультурного пространства общества. Сформированный таким образом новый тип общественных отношений откроет безбрежные перспективы как для позитивной социализации подрастающих поколений, так и для социально-профессионального сопровождения гуманной активности взрослых людей на всех возрастных этапах их жизненного пути. Полагаем, что только такой способ социального взаимодействия сформирует необходимый и достаточный для развития и деятельности автономной личности духовно-нравственный потенциал.
Сущностным ядром личностной автономии является свобода воли, реализация которой обеспечивается «тотальной» социальной свободой. Однако известный норвежский социолог, создатель Института мира Й. Гатлунг полагал, что основным препятствием на пути реализации жизнетворческой добровольности социального индивида выступает «недобрая» коллективная воля власти, насильно навязывающая ему удобные для собственного правления ценностно-нормативные системы и чуждые антигуманные институты [9]. Идеологическое насилие осуществляется посредством создания искусственно античеловечного информационного пространства, преднамеренно и целенаправленно насаждающего в социальных организмах (сетях) ценностнонормативный хаос. Собственно, в данном утверждении нет ничего нового, а социально-философская проблема состоит в поиске коллективным социогуманитарным сообществом методов и средств развития полноценного гражданского общества, способного эффективно формировать у активного большинства гуманные интересы и потребности, а также ограждать его от посягательств на законные права и свободы.
Составляющими понятия «личность» являются индивидуальность, идентичность, автономия. Духовно-нравственная атмосфера социума выступает универсальной основой формирования ценностно-смысловой сферы социального индивида. В свою очередь, ценностная система становится источником ценностно-нормативных ориентаций; опосредуемые убеждениями и потребностями, они определяют стратегию жизненного пути и тактики – (модели, способы, технологии) социального поведения человека в типичных жизненных обстоятельствах. Структура ценностного мира включает материальные и духовные ценности, а также целевые стратегические и тактические ценности, представляющие собой средства их реализации [10]. В процессе социализации растущий человек овладевает необходимой и достаточной совокупностью нормативных предписаний, детализирующих инструментальные ценности. Из данного условного для каждой цивилизации объема норм мы выделяем моральную, являющуюся системообразующей для определения качественной специфики групповых, коллективных, а также профессиональных и правовых норм. Уровень и характер социальной активности человека обусловлены его индивидуальной – активной или пассивной – жизненной позицией. Своеобразное соотношение объемов социальных индивидов в обществе, приверженных той или иной жизненной позиции, организует оригинальную качественную конфигурацию социальной динамики. Однако если отвлечься от изложенной абстрактно-теоретической схемы, то следует отметить, что современный философский постмодернизм провозгласил «смерть социального субъекта», а его бессменный авангард экзистенциализм, исходя из положения о том, что социальное взаимодействие хаотично, вообще отрицает наличие позитивного смысла у человека [11].
Особую актуальность в связи с этим приобретает перерыв постепенности, настигающий социальные системы в эпохи коренных эволюционных или революционных перемен. Именно в подобном положении оказалась Российская Федерация после известных событий конца прошлого столетия. Социалистическая социально-экономическая система плавно начала эволюционировать в направлении капитализма. Во многом этому способствовала традиционная социально-политическая пассивность молчаливого большинства, бывшего СССР. Кроме того, легкость крушения великой державы имеет также глубинную социально-этическую обусловленность. Безусловно, появление первого в мире социалистического государства было огромным цивилизационным экспериментом, инициированным относительно немногочисленным сообществом. Народные массы «приняли» новое социальное устройство так же уныло и покорно, как переносят плохую погоду. В общем и целом речь идет о том, что в столь радикальных исторических изменениях народ принимал минимальное участие. Представляется, что помимо воли народа была осуществлена транзакция социалистического СССР в капиталистическое социокультурное и социально-экономическое пространство. Поэтому считаем тематически целесообразным рассмотреть теоретические позиции известных философов второй половины XX столетия В.С. Библера и Г.С. Батищева на проблему взаимодействия различных цивилизаций и трансформацию в связи с этим сознания социального индивида.
Центральным смысловым конструктом понятийно-терминологического аппарата теории диалога культур В.С. Библера является «диалогика – …явление… присущее… XX – кануну XIX в.» [12]. Очевидно, что данный междисциплинарный неологизм состоит из двух корневых основ: диалектики – « диалектические контроверзы» и логики – «сопряжения логик между собой типа трансдукции» [13]. Таким образом, в рассматриваемое понятие органично вмещены как онтологические, так и гносеологические смысловые составляющие. Социально-практическая необходимость задействования данного понятия в социальном взаимодействии определяется, согласно В.С. Библеру, потребностью в сущностном самопереопределении человека, обусловленном исторически беспрецедентной, трагической разобщенностью культур мирового социума. Двухсубъектный автономноиндивидуальный аспект логического субъекта заключается в том, чтобы «выявить, актуализировать… молчаливую беседу разума с самим собой и является задачей… того, что называется диалогикой» [14]. В качестве универсальных средств такого рода интеллектуальной трансформации В.С. Библеру видятся философия, искусство и иные сугубо интеллектуальные социокультурные феномены. Он был убежден, что в споре логик различных мировых культур определятся беспредельные возможности как позитивного преобразования социальной действительности, так и само-детерминации «экзистенции человека накануне XXI в.». Конечной целью диалога культур выступает достижение взаимопонимания между философскими системами, приведения к общему знаменателю атрибутов «всеобщности бытия», выработки на этой основе универсального творческого мышления народных масс планеты, а также задействования взаимоприемлемой гуманной структуры социальной активности индивидуальных и коллективных субъектов мирового процесса. «Выходом» основных положений своего учения в социальную реальность В.С. Библер считал образовательную деятельность. В связи с этим примечательно, что, работая в конце жизни в Институте педагогики и общей психологии АПН СССР (1982–1989), В.С. Библер создал так называемую Школу диалога культур, которая была нацелена на экспериментальную апробацию авторской социально-педагогической системы, предназначенной для принципиального обновления образовательной деятельности в целом и общего среднего образования в частности.
Г.С. Батищев активно изучал и оригинально интерпретировал проблемы «межличностных коммуникаций… глубинного общения, диалога и полилога» [15]. Если в первой половине творческого пути он был адептом ключевой роли социальных субстанций в формировании смысловой картины мира в индивидуальном сознании человека, то в последний период жизни отдавал предпочтение теоретической позиции, согласно которой индивидуальная человеческая экзистенция хаотично, этически беспорядочно и в целом трагически негативно определяет ценностную «атмосферу общества». Субъективно-творческая, авторско-автономная жизненная позиция социального индивида в конце XX в. становится определяющей направленность и характер социального взаимодействия в дышащем на ладан бывшем СССР. В.Н. Шердаков считал, что Г.С. Батищев прекрасно осознавал онтологическую и аксиологическую несостоятельность подобного типа социокультурной динамики, но безвременная кончина в 58 лет не позволила ему создать социально-антропологическую теорию, которая адекватно отразила бы сложные перипетии социально-политической трагедии, заключавшейся в добровольно-принудительном социокультурном и социально-экономическом поглощении бывшего социалистического СССР откровенно вражеским капиталистическим мировым сообществом [16].
Обращение Г.С. Батищевым теоретических взоров в последние годы жизни тяжело больного человека к христианской религии считаем личностно понятным и оправданным, но философски не конструктивным. Г.С. Батищев в своем основном произведении «Введение в диалектику творчества» скрупулезно распредметил такие понятия, как «индивидная автономия и исключительность»,
«своемерие и своецентризм социального “атома”», «псевдосубъектность – креативная субъектность - многосубъектность - бессубъектность», «хитро-экономная логика - сущностная непричастность», «безразлично-атомистические связи – безразличный абстрактно-всеобщий труд», «всеза-хватывающая самопродажность», «социальная отчужденность системы», «гордая суверенность -лжеоригинальность», «логика ценностного мироотрицания». Он глубоко понимал порочную сущность зарождавшихся рыночных отношений: «безразличие и хитрая утилитарность индивида-атома ко всему миру вне себя не может в конечном счете не вернуться к нему же обратно… как заслуженная им... самоубийственная судьба» [17]. Прискорбно, что личная судьба Г.С. Батищева не выделила ему времени на концептуальное конструирование социума, базирующегося на «гармоническом единстве многообразия, аксиологическом взаимоединении» [18].
У российских философов В.С. Библера и Г.С. Батищева много общего. Прежде всего это почти идентичная ценностно-смысловая направленность философствования, ориентированная на познание Всеобщей Социальной Закономерности и преобразование мирового устройства на принципах Добра, Истины, Красоты. Оба ставили себе теоретические задачи поиска методов, средств и форм достижения межсубъектного взаимопонимания и согласия, оба усматривали основным путем реализации собственных гуманных теорий социальную коммуникацию, оригинальным образом сконструированный порядок взаимодействия (диалога и полилога) индивидуальных и коллективных субъектов мирового процесса. Общими для них являлись также сфера научных интересов, сосредоточение на проблемах творческого мышления автономной личности. Примерно одинаково виделось им и главное средство воплощения в социальную действительность их интеллектуального продукта – образовательная деятельность. Г.С. Батищев последние несколько лет жизни посвятил разработке проблем философии педагогики, а В.С. Библер даже попытался внедрить теорию диалога культур в учебно-воспитательный процесс нескольких экспериментальных площадок. Следует признать, что социально-практический эффект деятельности рассматриваемых гигантов философской мысли конца XX столетия несоизмеримо мал по отношению к затраченным творческим усилиям. Представляется, что адекватное решение проблемы автономии личности, соответствующее современному социальному заказу, под силу только междисциплинарному творческому коллективу, включающему философов, психологов, педагогов, социологов.
Социогуманитарное знание почти за сто последних лет не дало четкого ответа относительно соответствия как коммунистического, так и капиталистического социально-экономического устройства глубинному духовно-нравственному статусу полиэтнической человеческой общности бывшего СССР и современной Российской Федерации. Косвенными качественными критериями трансформации коммунизма в капитализм, осуществленной в 1991 г., стали частичная утрата социально-политического суверенитета, катастрофическое снижение уровня жизни народа, всеобщий моральный упадок. Однако ни одна живая душа за этот явно неудачный исторический эксперимент ни морального порицания, ни уголовного наказания не понесла.
Современное социально-экономическое устройство России является социалистически-ка-питалистическим, т. е. эклектичным. В сознании большей части населения России, а преимущественно у подрастающих поколений, царит ценностно-нормативный хаос. Последовательно и целенаправленно США «макдональдизируют» общественное сознание российского народа, формируют внутри страны антигуманное информационное пространство, ведут открытую информационную войну против Российской Федерации извне. Отсутствие государственной идеологии, базирующейся на духовно-нравственной основе общественного сознания народа, не позволяет сформировать внутреннюю политику государства таким образом, чтобы надежно защищаться от подобного рода коварной «тихой» агрессии.
Коллективный «Запад» в борьбе с Россией использует «мягкую силу» – принципиально новый тип оружия массового ментального поражения, включающий в том числе теорию «древесного червя». Общеизвестно, что критическая масса этих прожорливых насекомых может постепенно и бесшумно превратить в труху любое деревянное строение. США, «назначившие» Россию на роль основного стратегического противника, несказанно вдохновленные изумительной легкостью крушения бывшего СССР, открыто заявляют о «необходимости» разрыва Российской Федерации на восемь геополитических частей. Современное международное положение значительно осложняется системным кризисом глобальной либеральной западной доктрины. Так, норвежский социолог Й. Галтунг, предсказавший развал бывшего СССР за 10 лет, то же самое пророчит уже в 2020 г. для США. Перед Российской Федерацией и коллективным англосаксонским жизненным миром и его «вольными или невольными» сателлитами со всей очевидностью встала историческая задача радикальной переоценки традиционных ценностей, на которых основываются их социально-экономические системы. Особой остроты данной проблеме придают отнюдь не внезапно разразившаяся мировая геоклиматическая и экологическая катастрофа и, как их неизбежное следствие, глобальный антропологический коллапс.
Ссылки:
на пути к созданию единой науки о человеке / ред. и сост. С.М. Малков, В.Г. Борщенков. М., 2007. С. 75–86.
Years of Debate // Canadian Psychology. 2008. Vol. 49, no. 3. P. 225–232. ; Maturana H. Autopoiesis: A Theory of Living Organization. N. Y., 1981. 314 p.
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Социально-философский аспект проблемы автономии личности
- Хёсле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 112-123.
- Смолян Г.Л. Информационные воздействия на индивидуальное и массовое сознание // Многомерный образ человека: на пути к созданию единой науки о человеке / ред. и сост. С.М. Малков, В.Г. Борщенков. М., 2007. С. 75-86.
- Хабермас Ю. Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека // Вопросы философии. 2012. № 2. С. 66-80 ; Castels M. Globalization and Identity. A Comparative Perspective // Transfer. 2006. No. 3. P. 56-67.
- Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада : хрестоматия. 2-е изд., перераб. и доп. / сост. А.А. Печенкин. М., 1996. 397 с.
- Похилько А.Д. Социокультурная автономность сознания: философско-антропологическое измерение : автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Ставрополь, 2007. 42 с.
- Майкова Э.Ю. Социально-философская концепции автономии личности : дис. ... д-ра филос. наук. Тверь, 2015. 317 с.
- Кравченко Р.Ю. Личностная автономия: философский аспект : дис. ... канд. филос. наук. Армавир, 2008. 160 с.
- Gagné M., Forest J. The Study of Compensation Systems through the Lens of Self-Determination Theory: Reconciling 35 Years of Debate // Canadian Psychology. 2008. Vol. 49, no. 3. P. 225-232. https://doi.org/10.2139/ssrn.1923827 ; Maturana H. Autopoiesis: A Theory of Living Organization. N. Y., 1981. 314 p.
- Эрлих А.Р. Йохан Галтунг о мировых системах // Зарубежные ученые о политической науке. М., 1992. С. 77-84.
- Кришталюк А.Н. Сущностные характеристики автономности личности // Автономия личности. 2010. Т. 1, № 1. С. 44-47.
- Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Астрахань, 2004. 254 с. ; Миронов А.В. Формирование философской традиции автономности личности // Вестник Омского университета. 2019. Т. 24, № 2. С. 114-120. https://doi.org/10.25513/1812-3996.2019.24(2).114-120.
- Библер В.С. Диалог и диалогика [Электронный ресурс] // Библер и вокруг. URL: https://www.bibler.ru/bid_dialog.php (дата обращения: 07.12.2020).
- Там же.
- Там же.
- Шердаков В.Н. Найти и обрести себя. Особенности культуры глубинного общения // Вопросы философии. 1995. № 3. С. 13-18.
- Шердаков В.Н. Г.С. Батищев: в поиске истины пути и жизни // Там же. С. 19-23.
- Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества [Электронный ресурс] // Marxist Philosophy. Articles, Sources, Translations and Links. URL: http://marxistphilosophy.org/SovPhil/Batishchev97.html (дата обращения: 07.12.2020).
- Там же.