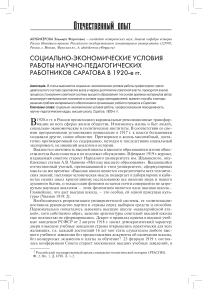Социально-экономические условия работы научно-педагогических работников Саратова в 1920-е гг
Автор: Абубикерова Эльмира Фаритовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье выясняются социально-экономические условия работы профессорско-преподавательского состава саратовских вузов в первое десятилетие советской власти, проводится анализ процесса становления советской системы высшего образования. На основе архивных материалов автор анализирует материальное положение и условия труда преподавателей, выявлет способы и методы решения проблем материального обеспечения и организации учебного процесса в Саратове.
Социально-экономические условия работы, профессиональная повседневность, научно-педагогические кадры, высшая школа, саратов, 1920-е гг
Короткий адрес: https://sciup.org/170194555
IDR: 170194555 | DOI: 10.31171/vlast.v30i3.9074
Текст научной статьи Социально-экономические условия работы научно-педагогических работников Саратова в 1920-е гг
В 1920-е гг. в России происходили кардинальные революционные трансформации во всех сферах жизни общества. Изменялись жизнь и быт людей, социально-экономические и политические институты. В соответствии со своими программными установками пришедшие в 1917 г. к власти большевики создавали другое, новое общество. Претворялся в жизнь масштабный, достаточно противоречивый по содержанию, методам и последствиям социальный эксперимент, не имевший аналогов в истории.
Важность и значимость высшей школы и высшего образования в жизни общества всегда были понятны и не подлежат обсуждению. В феврале 1919 г. журнал, издаваемый советом старост Народного университета им. Шанявского, опубликовал статью А.В. Чаянова «Методы высшего образования». Выдающийся отечественный ученый, преподававший в этом университете, сформулировал мысль на все времена: «Высшая школа является сосредоточием всех человеческих знаний; пытливая человеческая мысль подвергает в лабораториях и кабинетах наших школ кропотливому исследованию все явления мира и нашего духовного бытия, и только один феномен остается почти совершенно не затронутым научным анализом – этим феноменом является одна высшая школа… Главнейшее, что дает высшая школа, – это особая, ей одной присущая культура» [Чаянов 1919: 2].
Необходимость реорганизации университетской системы, ее «советизации» поставила руководство партии и страны перед выбором средств и способов. Первоначально попытались завоевать высшую школу «кавалерийской атакой», хотя собственно образ, видение архитектуры советской высшей школы еще полностью не сформировались. Декрет о правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР от 2 августа 1918 г. носил демократический характер: двери в высшие учебные заведения страны открывались практически для всех желающих, т.к. каждый достигший 16 лет мог стать слушателем любого высшего учебного заведения без предоставления документа об окончании школы, без конкурсных экзаменов и платы за обучение1. 23 февраля 1919 г. состоялась конференция Совета старост московских высших учебных заведений, в резолюции которой было записано, что высшая школа должна стать высшей трудовой школой и должна быть завоевана рабочими и крестьянами1. Далее последовали политические решения о ликвидации «буржуазных пережитков» – ученых степеней и званий – и разделения на доцентов и профессоров, вводилось студенческое представительство в органах управления вузов. Конечно, коммунистической социальной стройке необходимы были различные специалисты, в т.ч. ученые и преподаватели, новое же поколение ученых еще предстояло воспитать.
В годы Гражданской войны у советской власти были более приоритетные социально-политические задачи, но система образования и высшая школа без внимания не оставались. В 1919 г. был создан Государственный ученый совет (ГУС) и принято решение об организации рабочих факультетов при университетах. В 1920 г. начал свою деятельность Главный комитет профессиональнотехнического образования (Главпрофобр), который с 1921 по 1930 г. руководил высшими учебными заведениями РСФСР. Шел процесс становления и институционализации советской высшей школы [Демидова, Захаров, Ефимова 2018: 1116].
Большевики первоначально в университетском пространстве применяли политику кнута и пряника, часто очень неоднозначно проводившуюся на местах. В Поволжье положение высших учебных заведений в первые годы советской власти осложнялось тяжелой политической и социально-экономической ситуацией. Отсутствие финансирования, слабая материальная и опытно-экспериментальная база, низкий уровень научно-информационного обеспечения являлись общими характеристиками состояния поволжских университетов в годы революционных потрясений и Гражданской войны. На бытовом уровне – голод и холод, хозяйственная неустроенность. В подобных условиях особенно следует отметить мотивацию труда ученых «старой» высшей школы, тех, для кого материальная заинтересованность ушла на второй план, а на первый вышла преданность профессиональной деятельности вопреки тяжелым жизненным обстоятельствам. О самоотверженности и высокой социальной ответственности, любви к «делу жизни» свидетельствует тот факт, что представители медицинского факультета Саратовского университета в ноябре 1918 г. направили в Наркомпрос письмо, в котором говорилось, что «научная и учебная жизнь не может быть временно совершенно прекращена и должна быть приравнена к тем правительственным и общественным учреждениям, которые действуют непрерывно»2.
Советская власть уделяла больше внимания пролетарскому студенчеству. В рамках деятельности комиссии по реформе высшей школы в сентябре 1918 г. было создано специальное совещание по социальному обеспечению студенчества. С докладом о социальном обеспечении студентов на одном из заседаний выступил профессор В.Д. Зернов, Он отмечал, что положение сложное, но «государство не в состоянии содержать за счет других граждан всех, кто пожелает расширить свои знания, проходя курс высшей школы» [Зернов 1919: 27]. Но в то же время он подчеркивал, что «государство не должно останавливаться перед назначением огромных сумм, потому что развитие широкого распространения высшего научного образования окупит себя увеличением производительности народного труда» [Зернов 1919: 24].Следует отметить, что В.Д. Зернов был членом комиссии Наркомпроса по реформе высшей школы, принимал участие в ее первом заседании 8–4 июля 1918 г., вошел в число семнадцати человек, которым было поручено переработать на основе замечаний совещания проект положения о российских университетах. Данный проект обсуждался на втором совещании 4–8 сентября 1918 г. и принят не был. Но участники совещания единогласно проголосовали за пункт о создании в университетах научной ассоциации, чтобы «содействовать развитию наук и способствовать ученой деятельности членов Ассоциации»1.
Характеристика условий труда преподавателей саратовских вузов была дана на конференции научных работников, состоявшейся в Саратове в декабре 1923 г. На заседании профессора университета С.Р. Миротворцев, П.Г. Любомиров, А.А. Богомолец и М.И. Райский единодушно позиционировали работу преподавателей как очень тяжелую. Они отмечали, что трудиться приходилось при температуре –4 и –5°С, однако занятия и научная деятельность не прерывались. Продолжалась подготовка специалистов разного профиля, выпускались научные работы, учебники, читались лекции. Ученые реально помогали государству и обществу, как выполняя свой профессиональный долг, так и в борьбе с голодом, эпидемиями. Хотя, по словам профессора П.Г. Любомирова, «научные работники сами голодали, но не предъявляли счетов никому. Разве это не говорит само за себя»2. Важно отметить, что работать приходилось в условиях напряженного недоверия со стороны новой власти, делом, а не словом приходилось доказывать свою профпригодность.
С.Р. Миротворцев отмечал, что «университет переживал трудные дни, материальной базы у него почти не было. Здания без ремонта портились, помещения отапливались плохо, с перебоями. Университет располагался на голой площади: вокруг ни куста, ни забора, ни ограды» [Миротворцев 1956: 91]. Сидевшие в пальто и шапках профессора и студенты в промерзших насквозь аудиториях – типичная картина послевоенной повседневности вузов [Андреева, Соломонов 2006: 105].
В условиях всеобщей разрухи ряду вузов Саратова пришлось прибегнуть к «самообслуживанию» – весь студенческий и технический персонал участвовал в заготовке топлива, уборке снега, ремонте помещений. Особенно острой оказалась проблема нехватки топлива для отопления учебных корпусов. Ректор СГУ профессор В.Д. Зернов так описывал в своих воспоминаниях процесс заготовки дров на осень: «Утром мы пошли в лес... расстояние было с лишним 30 километров. Лес был не очень крупный, но почти исключительно дубовый и кленовый, так что пилить было трудно, это ведь самые прочные породы» [Зернов 2005: 226-227]. Из того немногого, что удалось заготовить профессорам и студентам, практически ничего не удалось доставить в город по причине нехватки транспорта. Многие аудитории из-за сильнейшего холода пришлось закрыть совсем. В таких случаях руководству вузов приходилось проявлять смекалку, идти на всяческие ухищрения. В.Д. Зернов, столкнувшись с проблемой подвоза нефти от Волги к зданию университета (возчики запрашивали большие денежные суммы), в качестве оплаты предложил ранее полученный для вуза спирт. «Возчик тут же около выдачи залпом выпивал полбутылки спирта, в результате обе стороны оставались довольными». В другом случае Владимир Дмитриевич получил нефть у заведующего «Райнефтью» в обмен на редкие записи классической музыки [Зернов 2005: 217-218].
Предполагалось, что научные работники будут привлекаться к хозяйственной деятельности лишь на добровольной основе, но известны факты наказания

некоторых преподавателей за неявку или отказ от работы. Например, преподавателя Г.П. Боева за неявку на снегоочистительные работы арестовали, несмотря на имевшееся у него свидетельство о тяжелой болезни – пороке сердца1.
Удовлетворение потребностей, связанных с профессиональной деятельностью ученых в годы Гражданской войны, находилось буквально на нищенском уровне. Например, минимальная норма обеспечения научных работников необходимыми канцелярскими принадлежностями в середине 1921 г. состояла из 2 штук карандашей, 12 штук перьев, 4 листов бумаги и 1 бутылки чернил на человека в год2. Государственные средства, выделявшиеся на образование и науку, были ничтожно малы, а т.к. другого источника финансирования вузы не имели, то средств катастрофически не хватало. О таких дорогостоящих вещах, как ремонт или строительство новых корпусов, и говорить не приходилось. Но с увеличением числа студентов, открытием новых факультетов и кафедр это становилось очень актуальной проблемой. Повсеместно в аудиториях, рассчитанных на 200 чел., присутствовали до 400 студентов, а некоторые лекции проходили и при 800 слушателях. Лаборатории и учебные кабинеты не пополнялись оборудованием несколько лет, морально устарели, в некоторых образовательных учреждениях очереди на лабораторные занятия были расписаны на год вперед, а студенты вынуждены были на свои средства приобретать необходимые материалы. Как следствие, – рост числа неуспевающих студентов.
Тем не менее некоторые приобретения все же осуществлялись. Например, в конце августа 1920 г. ректор университета В.Д. Зернов отправился в Москву в Наркомздрав с просьбой о выдаче клиникам Саратова медикаментов и перевязочных материалов. Благодаря пониманию наркома Н.А. Семашко и активным действиям самого В.Д. Зернова заявки были полностью удовлетворены, и, как отмечал последний, они «получили целый вагон, если не два, всяких медикаментов, ваты, бинтов, инструментов» [Зернов 2005: 229-230]. На покупку материалов и оборудования для химического факультета в мае 1921 г. было выделено 1,5 млн руб.3 На приобретение необходимых предметов для кабинета анатомии и физиологии растений того же факультета было выдано 200 тыс. руб.4 Осуществлялось это посредством командировок представителей научно-педагогического сообщества в столицу. Так, для покупки необходимых приборов для физического факультета в июне 1926 г. сотрудник Подобед был отправлен в Москву на две недели5.
Следует подчеркнуть, что материальное положение всех проживавших в РСФСР было особенно тяжелым в первые годы власти большевиков – годы революции и Гражданской войны. Новая экономическая политика не сразу дала результаты. По мнению партийного руководства, улучшение началось с 1924 г. Так, в резолюции Саратовского губкома РКП(б) от 29 ноября 1924 г. было записано: «…мы имеем в наших вузах значительное улучшение материального положения»6. На заседании президиума 2-го райкома РКП(б) Саратова в октябре 1924 г. отмечалось, что в институте сельского хозяйства «установилось благополучное материальное положение», а потому решено «взять курс на привлечение лучших агрономических сил»7. Однако это еще совсем не озна- чало реальное качественное улучшение социально-экономической ситуации. Даже такой специальный вуз Саратова, как Коммунистический университет, несмотря на похвалы губкома по поводу умелой организации педагогического процесса, не располагал достаточными средствами, чтобы не нуждаться в самом необходимом. Вуз пользовался химической и физической лабораториями отдела народного образования, собственные кабинеты были недостаточно укомплектованы1. В докладе члена ГУСа А.Я. Вышинского в 1927 г. отмечалось, что в Саратовском университете, «благодаря скудности средств, кабинеты работают только несколько дней в неделю и по несколько часов. Инвентарное оборудование кабинетов далеко недостаточно. Не хватает в ряде кабинетов столов и стульев»2.
Улучшение материальной базы вузов было прописано в основных положениях к составленному в 1928 г. пятилетнему перспективному плану развития народного образования в Нижне-Волжском крае. Необходимо было оснастить учебные кабинеты и лаборатории оборудованием, улучшить финансирование капитального строительства. Высшая школа вступала в период серьезных преобразований, т.к. советская власть поставила задачу удовлетворить кадровые запросы промышленности и сельского хозяйства.
Список литературы Социально-экономические условия работы научно-педагогических работников Саратова в 1920-е гг
- Андреева Т.В., Соломонов В.А. 2006. Историк и власть: Сергей Николаевич Чернов. 1887-1941. Саратов: Научная книга. 371 с.
- Демидова Е.И., Захаров А.В., Ефимова Е.А. 2018. Институциализация советской высшей школы в России в 1920-е гг. - Вестник архивиста. № 4. С. 1115-1127.
- Зернов В.Д. 1919. Программа деятельности совещания по социальному обеспечению студенчества и распределение сумм в первом полугодии 1919 г. - Высшая школа. № 3-4. С. 23-30.
- Зернов В.Д. 2005. Записки русского интеллигента. М.: Индрик. 398 с.
- Миротворцев С.Р. 1956. Страницы жизни. Л.: Медгиз. 199 с.
- Чаянов А.В. 1919. Методы высшего образования. - Высшая школа. № 2. С. 2-6.