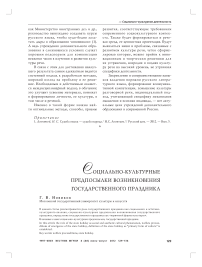Социально-культурные предпосылки возникновения государственного праздника
Автор: Новиков Георгий Владимирович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Социально-культурная деятельность
Статья в выпуске: 4 (48), 2012 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается роль государственного праздника как социального и эстетикокультурного явления, социально-культурные предпосылки возникновения государственного праздника, определение государственного праздника как «первичной формы культуры».
Социально-культурные предпосылки, государственный праздник
Короткий адрес: https://sciup.org/14489255
IDR: 14489255
Текст научной статьи Социально-культурные предпосылки возникновения государственного праздника
1997–0803 ВЕСТНИК МГУКИ 4 (48) июль–август 2012 129–134


Государственный праздник — это постоянно изменяющееся в истории социальнокультурное явление. Проникнуть в его сущность и объяснить его переменчивую роль в общественной жизни и культуре, руководствуясь каким-то одним принципом, невозможно. Отсюда безуспешность попыток найти универсальную концепцию государственного праздника, пригодную на все случаи и времена. Последнее, однако, не означает отсутствие у данного явления неких общих закономерностей. Они, несомненно, есть, но выявить их можно лишь с помощью исторического и логического методов анализа, которыми мы и будем руководствоваться, обосновывая собственную точку зрения на исследуемый предмет и опираясь при этом на утвердившиеся в науке идеи, выводы и наблюдения.
Благодаря М.М. Бахтину в нашей литературе закрепилась формула: «Празднество (всякое) — это очень важная первичная форма человеческой культуры» (1, с. 11). Раскрыть ее всеобщий смысл крайне желательно, так как это открыло бы нам путь к уяснению того, что есть государственный праздник как социально-художественное явление. К сожалению, сам М.М. Бахтин не дает по этому поводу сколько-нибудь конкретных разъяснений, сосредоточивая все свое внимание на анализе конкретноисторической формы праздника, представленной в его книге средневековым карнавалом, сущность которого объясняется здесь в основном с помощью категории комического и так называемой «смеховой культуры», характерной опять же для средневековья и еще более ранних периодов истории, например, античного мира. Смех, являясь важной социальной и эстетико-культурной категорией, во многом определяет всеобщее содержание праздника. Однако он, как и игра, не может стать исходным моментом в определении сущности этого явления, а точнее говоря, того изначального социального импульса, который способствует возникновению праздника в качестве именно «первичной формы культуры». Не раскрывая конкретного содержания понятия праздника в этом именно значении, Бахтин вместе с тем высказывает очень важное соображение. Оно состоит в том, что данное понятие нельзя вывести, а следовательно, и объяснить до конца, исходя из практических условий и целей материальнообщественного труда. Это соображение, на наш взгляд, является с методологической точки зрения принципиальным для теории праздника. На него, по-видимому, и следует опираться в поисках решения вопроса о специфике и изначальном смысле праздника как явления культуры.
Отказ принимать во внимание существенные моменты человеческого бытия, обусловленные материально-производственной деятельностью («трудом»), не означает, что тем самым мы становимся на ту точку зрения, которая характерна для современной западной философской антропологии и где исходными предпосылками в теоретическом рассмотрении праздника выступают такие звучные, но мало что говорящие понятия-метафоры, как «Человек играющий» (Homo ludens), «Человек праздничный» (Homo festivus) или, наконец, «Человек мифотворящий» (Homo fantasia). Но этот же отказ от «труда» не предполагает отождествления нашей позиции с позицией русской дореволюционной науки, которая в подходе к пониманию праздника отталкивалась чаще всего от понятия «психологический индивид» или «психологический коллектив». Предположение, лежавшее в основе такого именно подхода и сводившееся к тому, что, рассматривая настроение индивида (или коллектива), его переживания и поведение в момент праздничного акта, можно составить общее теоретическое представление о сущности праздника, являлось не совсем правильным, пожалуй, даже ошибочным.
Следовательно, можно получить сведения не о празднике как социальном и эстетикокультурном явлении, а всего лишь об одном из аспектов его содержания, о психологической атмосфере или о том настроении, какое праздничный акт порождает в человеке. «Психологический индивид» (или такой же коллектив) по этой причине не может выступать в качестве общей модели праздника как культурного феномена. Здесь следует к тому же учитывать, что «психологический индивид» (или коллектив) в науке, особенно дореволюционной, часто выступал не в том «психологическом» облике, который ему приписывается согласно данной терминологии, а в виде абстрактной, умозрительной конструкции «человека вообще», сочиненной в кабинете.
Решение вопроса о сущности государственного праздника, по-видимому, невозможно, пока теория, методика и организация социально-культурной деятельности имеет дело с индивидом, взятым как абстракция («человек вообще») или изображенным в качестве «реального», «чувственного», то есть индивидом во плоти. Для теоретического решения этого вопроса необходимо перейти от такой реалии, как индивид, к значительно более абстрактному и в то же время неизмеримо более конкретному и действительному представлению о «человеке» — к понятию «общество»: «...человек — не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. Человек — это мир человека, государство, общество» (2, с. 414). И только после того, как решен вопрос о сущности праздника с этой всеобщей точки зрения, можно говорить о чувствах «индивида», его особых настроениях, специфичных для праздника.
Определение государственного праздника как «первичной формы культуры» вместе с тем невольно вызывает ассоциацию с «началом» общества, которое, как известно, открывает «труд». К тому же «труд» также является формой культуры, из которой сущность государственного праздника, согласно данному выше разъяснению, вывести нельзя. Так обнаруживается вроде бы логическое противоречие, которое необходимо снять, прежде чем искать ответ на вопрос о том, что есть государственный праздник как форма культуры.
Представление о том, что «вначале было дело» («труд»), несомненно, соответствует истине, но оно нередко превратно истолковывается, а именно в том смысле, что «человека», «общество» создали исключительно те примитивные орудия труда, которыми пользовался наш предок. Известно между тем, что и обезьяна умеет владеть палкой, хотя ни «общества», ни «культуры» не соз- дает. От обезьяны, временами пользующейся примитивными орудиями, предок человека отличался не просто трудом, а систематичностью своего труда. Человеческий труд всегда выступал как труд коллективный; он не являлся никогда и не является теперь единичным актом, а протекает во времени, в истории сменяющихся поколений. Последнее достигается с помощью коммуникативной деятельности или общения, которое передает от поколения к поколению накопленный опыт, традиции, потребности, ценности и идеалы. Человеческий труд с самого начала предполагает наличие определенных культурных средств связи, которые сформированы в коллективе и носят социальный, а не генетический, как у животных, характер.
Значит, «начало» общества скрыто не в самом по себе факте использования предком человека орудий труда, а в развитии общения, в создании внегенетических, социальных форм контактов и источников связи, что, будучи следствием труда, одновременно выступает необходимым условием его, а по сути дела вторым решающим фактором создания социальной ситуации именно как совокупности труда и общения людей.
Помогая человеческому труду самоопределиться в качестве именно общественного труда, общение, в свою очередь, обусловливает становление и развитие различных культурных форм, прямо с материальным трудом не связанных. Одной из таких форм и является государственный праздник. Предваряя соответствующее объяснение по данному поводу, коротко охарактеризуем само общение.
Общение — один из существенных факторов воспитания молодежи. Поэтому К. Маркс определял человека как «животное, которому свойственно общение», более того, как «животное, которое только в обществе ... и может обособляться» (2, с. 414). Это означает, что в случае коммуникативной деятельности мы имеем дело с высшей формой самопроявления человека как общественного существа. Ведь эта деятельность, если иметь в виду ее своеобразие в ряду других видов деятельности, есть не просто активность одностороннего характера, исходя- щая от человека и направленная на какой-то предмет с целью его познания или преобразования, но прежде всего многосторонняя активность, ибо осуществляется между многими, несколькими или, по крайней мере, двумя субъектами, каждый из которых является живым человеком и предполагает то же самое в других, общающихся с ним. Как подчеркивал К. Маркс, в общении индивид сначала «смотрится, как в зеркало, в другого человека» и, «лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку».
Итак, подлинное общение возможно только между людьми, причем тогда, когда эти люди наделены одинаковой активностью и равны в отношении друг друга и когда, наконец, имеется какой-то особый язык, особое настроение, с помощью которого общение и осуществляется. Последнее обстоятельство, кстати говоря, и позволяет смотреть на общение как на материальную деятельность, ориентированную на создание языка или системы знаков, которые, объективируя информацию, связывают общающихся узами взаимопонимания. В целом же общение есть, повторим это еще раз, форма воспроизводства самого молодого человека.
Проводя аналитическую реконструкцию зарождения государственного праздника, следует отметить, что подлинная история государственного праздника как формы культуры начинается с того момента, когда в жизнь человеческого коллектива вторгается само понятие времени или когда время как таковое становится предметом осознания, что, как об этом свидетельствуют данные этнографии, происходит сравнительно поздно.
Зарождение государственного праздника есть длительный процесс, начало которому кладут периоды свободного времени, отводимые не на труд, а на всякого рода развлечения, игры и ритуалы. Общение в сфере досуга, в свою очередь, способствует осознанию времени, что и приводит в конечном счете к образованию государственного праздника.
Объективное выделение свободного времени (досуга) внутри физического времени, 132
в котором протекала жизнь первобытного коллектива, способствовало формированию субъективного или чувственного представления о времени, в дальнейшем — созданию понятия о социальном времени. Во всяком случае, свободное время (в этнографии его иногда называют ошибочно «праздником»: «промискуитетный праздник», «тотемный праздник» и др.) выделялось как вполне особенное. Его характеризовало особо активное и особо значимое общение. В эти моменты осуществлялись специфические действия и складывалось специфическое настроение. Это не должно вызывать удивление, если учесть, какие важные функции выполнял первобытный досуг. Так, например, «тотемный праздник» включал в себя коллективное пиршество, важнейшим моментом которого было ритуальное поедание мяса убитого тотемного животного, что имело огромный социальносимволический смысл, если учесть, что тотем олицетворял собой человеческую общность; половую оргию, способствующую закреплению половых табу в границах времени, отводимого на материально-производственную деятельность; систему магических обрядов, имевших целью обеспечить как размножение тотемного животного, так и удачу охоты на него, что выражалось в разного рода почестях, воздаваемых останкам тотема, а также во всевозможных плясках, имитировавших движения животного ряжеными под него людьми; наконец, «тотемный праздник» включал в себя в качестве обязательного момента обряды инициации, то есть посвящений в категорию взрослых юношей и девушек. Отсюда видно, что даже первобытный досуг был многоплановым, полифункциональным. Все, что совершалось в этот момент, резко отличалось от того, как протекала жизнь людей в другие периоды их существования. Кроме того, первобытный досуг благоприятствовал развитию общения и тем самым способствовал воспроизводству социальных форм существования. Первобытный досуг и особое общение, заполнявшее его, с образованием религии вошло как важнейшая часть в систему религиозного удвоения мира, где существующий, реальный мир имел своего антипода — иллюзорный мир.
Последний был полной противоположностью первого. Он компенсировал мир реальный, предоставляя возможность внутри себя решать все противоречия, неразрешимые в реальном мире. При этом иллюзорный мир, в котором сняты реальные значения противоположностей, оказывался в этом случае как бы локализованным — сначала во времени, потом и в пространстве.
Возникновение государственного праздника нельзя оторвать от формирования таких представлений-категорий, как «страна предков», «страна духов» и т.д., которые характеризуют социально-культурный феномен «мифологического пространства». Как и с категорией «пространство-время», здесь религиозное сознание первобытного коллектива противопоставляло мифологическому пространству земной аналог. Им являлось собственно праздничное «пространство-время», которое можно представить и как место для игр и разного рода развлечений, и как жертвенник, и, наконец, как алтарь — позднейшая модификация праздничного места. Праздничное «пространство-время» — это, как правило, место для совершения социально-культурных актов, закрепленное за определенным участком местности. Но это не просто физическая территория, участок земной поверхности. Как и в случае с праздничным временем, здесь правят свои особые законы, разрешающие делать то, что запрещается в других местах, и наоборот. Повторим, что это место связано не с прямо-производственной деятельностью, а с ее антиподом. Оно соотносится с общением в сфере свободного времени, которое приняло форму праздничного времени.
Следовательно, государственный праздник есть результат локализации общения как во времени, так и в пространстве. Эта полная локализация общения в условиях формирующейся религии и предстает как особый праздничный мир, в котором мир реальный присутствует в перевернутом виде. Религиозное удвоение мира материализуется в создаваемых людьми пространственно-временных моделях праздничного мира. Возникнув однажды, такая модель, например мифологический «золотой век», в дальнейшем стано- вится потребностью и регулярно воссоздается в определенные, заранее намеченные дни и обязательно на освященном традицией или обычаем участке местности.
Дальнейшая социально-культурная реконструкция зарождения государственного праздника приводит к необходимости соотнести сложившийся из общения феномен праздника с аппаратом религиозной и светской власти, который оказывается размещенным примерно в тех же местах, что и праздник, — на сакральном участке. И это не является случайным. Власть осуществляет управление жизнью коллектива или коллективов как с помощью присущих ей «инструментальных» или политических средств, так и с помощью социально-культурных психологопедагогических механизмов, выполняющих функцию власти. В состав последних входит и праздник. Он регулирует социальнокультурное существование людей. При этом регуляция, осуществляемая с помощью организации праздника, отнюдь не сводится только к административному управлению, а скорее к педагогическому регулированию в учреждениях культуры. В ранние периоды истории государственный праздник осуществляет социологическую функцию самим фактом своего существования. Он играет роль восполнителя или балансира относительно бытия индивидов и коллективов. И это ему удается по той причине, что, будучи особой моделью мира, государственный праздник наделен иным временем и располагается в ином «пространстве-времени». Пребывание внутри такой модели, в ее особом пространстве и особом времени, как и сам факт ее существования, оказываются способными снять, решить (по большей части иллюзорным образом, конечно) противоречия реальности. Возможность этого скрыта в социальных и эстетико-культурных потенциях государственного праздника, прежде всего в свободном, не связанном с материальнопроизводственной деятельностью общении людей.
Проведенный анализ показывает, что государственный праздник — один из самых первых и наиболее эффективных регуляторов в масштабах общества. Так, по-видимому, следует толковать содержание формулы: «Празднество (всякое) — это очень важная первичная форма культуры» (Бахтин). Но при этом недостаточно исходить из одной лишь предпосылки, лежащей в основе данного определения, а именно: что государственный праздник невозможно объяснить, исходя из практических условий и целей общественноматериального труда. Для этого приходится принимать во внимание всю совокупность факторов, определяющих жизнь человека в обществе. Государственный праздник может быть правильно понят, когда учитывается вся социально-культурная жизнь в целом, составленная из двух основных типов жизнедеятельности: производства и воспроизводства материальных средств существования общества, производства и воспроизводства самого способа общения или общественной формы материальной деятельности. Если совокупность этих двух типов жизнедеятельности составляет регулятивную систему общества, имеющую прямые и обратные связи, то историческое значение и исторические судьбы государственного праздника с момента его возникновения оказываются связанными с развитием взаимоотношений внутри этой надвое поделенной системы. Осознание этого важного обстоятельства, проливающего свет на двойственный характер государственного праздника, позволяет далее говорить о специфических социальных свойствах этого феномена. Во-первых, государственный праздник — в противоположность однообразному и разобщенному труду и замкнутости семейного и общинного укладов жизни — был необходим психологически в связи с тем, что сегодня называется сменой стереотипа. Иначе говоря, государственный праздник являлся полем реализации стремления к общности, братству, что, конечно, могло осуществляться лишь в иллюзорной форме. Во-вторых, нужно учитывать особую социально-культурную окраску праздничности как выражения коллективности.