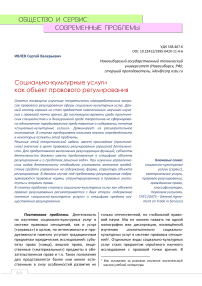Социально-культурные услуги как объект правового регулирования
Автор: Ивлев Сергей Валерьевич
Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal
Рубрика: Общество и сервис: современные проблемы
Статья в выпуске: 4 (74), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению теоретически неразработанных вопросов правового регулирования сферы социально-культурных услуг. Данный сектор сервиса не стал предметом комплексного научного изучения с правовой точки зрения. До настоящего времени среди практических специалистов и в дискурсивной среде теоретиков несформировано однозначное парадигмальное представление о содержании понятия «социально-культурные услуги». Доминирует их расширительное толкование. В статье предпринята попытка внести определённость в некоторые аспекты этой проблемы. Решение этой теоретической задачи имеет прикладное (практическое) значение в целях правового регулирования сервисной деятельности. Для продуктивного выполнения регулирующих функций, субъекты деятельности должны иметь представление о специфике объекта регулирования и о средствах решения задач. При изучении управленческих видов деятельности необходимо учитывать активное воздействие средств управления на содержание, форму, структуру объекта регулирования. В данном случае под средствами регулирования подразумеваются правовые нормы, структурированные в правовые институты и отрасли права. В статье проблема статуса социально-культурных услуг как объекта правого регулирования рассматривается с двух сторон: содержание понятия «социально-культурные услуги» и специфика средств осуществления регулирования.
Социально-культурные услуги (сервис), материальные услуги, правовое регулирование, гражданское право, классификаторы, торговля услугами, гатс (gats - general agree- ment on trade in services)
Короткий адрес: https://sciup.org/140205589
IDR: 140205589 | DOI: 10.22412/1995-042X-11-4-6
Текст научной статьи Социально-культурные услуги как объект правового регулирования
В статье проблема статуса социально-культурных услуг как объекта правого регулирования рассматривается с двух сторон: содержание понятия «социально-культурные услуги» и специфика средств осуществления регулирования.
Постановка проблемы. Деятельность по изучению социально-культурных услуг в системе правовых отношений, как и услуг («сервиса») в целом, по интенсивности и продуктивности намного уступает традиционным предметам юридических исследований: субъекты права («лица), вещное право, вещественные («материальные») предметы в обязательственном праве и т.п. Такое положение дел представляется более или менее естественным в силу особенностей развития не только отечественной, но глобальной правовой науки. Мы не можем назвать ни одной монографии или диссертации, посвящённой изучению исключительно социальнокультурных услуг в системе правовых отноше-ний1. Отдельные виды социально-культурных услуг стали предметом серьёзного научного исследования с правовой точки зрения. В наибольшей степени это относится к туристским услугам. Можно назвать таких исследователей, как Н.И. Волошин [2], Я.В. Вольвач [3], М.М. Маринин [11], Е.Л. Писаревский [13,14], Н.В. Сирик [20] и др. Исследование Н.Г. Якубовой [29] посвящено международноправовому регулированию аудиовизуальных услуг связи в рамках ВТО. В работе М.В. Севостьянова и С.А. Шаронова [21] представлены результаты изучения гражданско-правового регулирования концертных услуг и охраны прав их участников.
В изучении сферы услуг в целом как объекта правовой реальности можно отметить важное значение работ двух отечественных исследователей: цивилиста Л.В. Санниковой [18, 19] и И.И. Демулена [5], в монографии которого представлены результаты изучения существенных правовых элементов международной торговли услугами.
В зарубежных исследованиях правовых аспектов социально-культурных услуг приоритетными являются следующие направления: международная торговля услугами [17], защита культурного наследия [32], сохранение культурного разнообразия (и связанного с этим мультикультурализма) [30], регулирование процессов оказания культурных услуг в «цифровую» эру [31]. Понятие «социальнокультурные услуги (сервис)» бытует исключительно в российском научном и образовательном дискурсе.
Изучение правового статуса социальнокультурных услуг предполагает рассмотрение трёх проблемных аспектов. Первое: отнесение конкретных видов деятельности к сфере услуг (сервиса) с позиций правового регулирования является дискуссионным. Содержание данной проблемной ситуации заключается в том, что нужно разграничить такие объекты правового воздействия как «товары», «вещи», «услуги (оказание услуг)», «работы (результаты работ)» и т.п. Второе: классификация определённых видов услуг именно как социальнокультурных. Третье: особенности механизма правового регулирования для соответствую- щего класса объектов.
В отечественной практике научного изучения большинства правовых явлений доминирует легалистский подход, основанный на юридической догматике. С гносеологических (методологических) позиций его можно обозначить как «позитивистский». Он объясняется полным господством в нашем правоведении (и в смежных областях знания) воззрений на право, как явление, генетически и сущностно связанное с государством («этатистский» подход ). Фактически право у нас понимается исключительно как атрибут государства. Достаточно взглянуть на наименования структурных единиц («полей») научноисследовательской правоведческой и образовательной деятельности: «теория государства и права», «история государства и права России», «история государства и права зарубежных стран», «история политических и правовых учений» и т.п. В отечественном правоведении совершенно не получили признания продуктивные и перспективные эвристически ценные направления правовой науки, которые зародились и развиваются за рубежом: экономика и право, социология и антропология права, сравнительное правоведение (юридическая компаративистика)2.
Описанные выше принципиальные методологические положения определяют использование соответствующих средств исследовательской работы.
Правовая система - очень сложное образование, состоящее из огромного множества элементов. «Атомом», простейшей частицей (средством) механизма правового ре- гулирования является правовая норма. Нормы группируются в крупные агрегаты: правовые институты, отрасли права, правовые подсистемы (например, частное и публичное право) и правовые системы. Правовая система конкретного государства является национальной правовой системой. Она может быть унитарной (например, в Российской Федерации и в десятках других стран) или плюралистичной. Типичная страна правового федерализма – Соединённые Штаты Америки3. Кроме того, необходимо учитывать, что национальные правовые системы функционируют не в вакууме, они взаимодействуют с иностранными правовыми системами (точнее, с правовыми субъектами этих систем). Исходя из умозрительных предположений, трудно ожидать однозначных определяемых явлений в столь гетерогенной и многоэлементной структуре. Задачу их нахождения облегчают типологически заданные («родовые») особенности правовой реальности: всякая правовая система должна отвечать двум требованиям: не иметь пробелов и быть внутренне непротиворечивой. В реальности нет ни одной правовой системы, которая бы в полной мере отвечала этим требованиям.
Легальная классификация основных элементов сервисной деятельности
Легалистский подход подразумевает, что исходные определения нужно строить на основе положений, зафиксированных в каких-либо нормативно-правовых актах или в юридической доктрине. Источником для нашего изучения будут нормативно-правовые акты различной юридической силы национального (внутригосударственного) и международного уровней. Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) является основополагающим документом гражданско-правового (частноправового) регулирования в нашей стране («конституция» повседневной жизни). В ГК РФ нет определения услуг (тем более – социально-культурных) как объекта регулирования [4, с. 39]. Поскольку деятельность по оказанию услуг регулируется не только нормами гражданского права, необходимо в процесс изучения включить другие отрасли права. В Налоговом кодексе РФ приведена классификация объектов налогового регулирования. Весь массив объектов регулирования делится на товары, работы и услуги [27, с. 253]. Отграничение товаров от работ и услуг не представляет значительной сложности. Под «товарами» подразумеваются вещественные предметы, предназначенные для обмена. Товары не предназначены для непосредственного потребления его владельцами (собственниками и т.п.)4 [16, с. 76].
В гражданском праве РФ распределение объектов регулирования проводится по двум направлениям: объекты гражданских прав в вещном праве и виды договоров в обязательственном праве [1, с. 72-73]. В ныне действующей редакции Гражданского кодекса РФ выделяются следующие группы объектов гражданских прав: вещи, результаты работ, оказание услуг, интеллектуальная собственность и нематериальные блага.
Гораздо существеннее то, что необходимо провести чёткую разницу между работами и услугами [9] .
Единственный федеральный нормативно-правовой акт, в котором содержится определение социально-культурной услуги, это национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения». Изучение данного документа не создаёт сколько-нибудь ясного представления по интересующему нас вопросу. В нём определение услуги заимствовано из межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9000: «…услуга – это результат … действия, … произведенного
(осуществлённого при взаимодействии) между поставщиком и заказчиком (потребителем), как правило, нематериальный ». Обращаем внимание на то, что результат (или продукт) действия нематериальный характер. Это важно, потому что следующим пунктом в стандарте приводится классификация всего массива услуг на материальные (включает деятельность, осуществляемую по отношению к материальному продукту) и нематериальные (социально-культурные) . Конкретизация (перечень) нематериальных (социальнокультурных) услуг представляется (а) неоправданно широкой и (б) очень неопределённой. На наш взгляд, неприемлемо относить к социально-культурным услугам финансовые, связи, сдача внаём оборудования, жилья и т.п.5
В изучении явлений, связанных со сферой услуг, очень часто используется термин «материальный (нематериальный)». В научном дискурсе этот термин имеет очень много смысловых значений и оттенков (коннотаций). Например, в философии понятию «материальный» противополагается понятие «идеальный», в правоведении - понятие «формальный». На наш взгляд, более оправданно использовать в соответствующих ситуациях вместо термина «материальный» слово «ве-щественный»6.
В стандарте ГОСТ Р 50646-2012 указывается, что отдельные услуги, «осуществляемые за плату по заказу потребителей и имеющие некий материальный результат или материальное выражение, иногда называют работой». В данном случае содержание стандарта прямо противоречит нормативно-правовым актам более высокой юридической силы: Гражданскому, Налоговому и Таможенному кодексам РФ. Регулирование работ осуществляется по договору подряда: заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей её результата заказчику. Как мы видим из этого положения 37 главы ГК РФ, результат работы имеет преимущественно вещественный характер. В соответствии со статьёй 779 главы 39 ГК РФ содержанием оказания услуг является совершение определённых действий или осуществление определённой деятельности. Следующий пункт этой же статьи конкретизирует перечень услуг, которые регулируются договором возмездного оказания услуг: услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, туристическому (так в ГК РФ - С.И.) обслуживанию и иные. Следовательно, этим правилам регулирования подлежит большая часть услуг, за исключением услуг (!) подряда, выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, перевозки, займа и кредита, и ряда других. Из этого перечня можно сделать вывод, что под- мыми при посредстве органов чувств являются интеллигибельные предметы (сущности). Элементы реальности, которые представлены в сервисной деятельности являются сенсибельными, то есть познаваемыми и операбельными (соответственно) с помощью органов чувств. На наш взгляд, использование понятия «неосязаемость» в отношении услуг является некорректным. Существуют весьма странные классификации услуг: по степени материализации и осязаемости услуг, по степени потребительской ориентации, уровню личных контактов людей, трудоёмкости услуг и по соотношению общественных и частных начал в сфере услуг [26, с. 17].
ряд (результаты работ) является также оказанием услуг. Но, в отличие от других видов услуг, подряд обязательно включает предоставление в виде продукта деятельности её вещественного результата. Это различие порождает ряд правовых последствий: при оказании услуг не может возникнуть какое-либо вещное право (собственности, оперативного управления, сервитута) на результат деятельности по оказанию услуг (в отличие от подрядной деятельности).
Гораздо более подробная классификация услуг приведена в Классификаторе услуг внешнеэкономической деятельности (КУВЭД). Данный нормативно-правовой акт принят в рамках СНГ. За основу взята классификация услуг, принятая в ГАТС (GATS – General Agreement on Trade in Services). Генеральное Соглашение по торговле услугами (ГАТС) наряду с ГАТТ основополагающий (базовый) документ, который обязана принять любая страна, вступающая во Всемирную торговую организацию. Мы переходим к рассмотрению нормативно-правовых актов международного уровня. Поскольку использование международных элементов правового регулирования в нашем исследовании представляется чрезвычайно плодотворным, на них нужно остановиться подробнее.
Правовые источники международного уровня по своему происхождению являются внешними по отношению к правовой системе Российской Федерации. Следовательно, (а) они не обладают обязывающей силой для субъектов отечественной правовой системы, (б) на них не распространяется требование непротиворечивости с другими элементами нашей правовой системы. Это верно за исключением тех нормативно-правовых актов, которые в установленном порядке признаны нашим государством. В соответствии со статьёй 15 Конституции РФ международные договоры, хартии, конвенции, уставы международных организаций, к которым присоединилось наше государство, становятся частью её правовой системы. Более того, в случае воз- никновения противоречия (коллизии) между нормами национального (внутригосударственного) и международного права приоритет отдаётся нормам международного права. То есть, указанные выше ограничения (а) и (б) недействительны в отношении определённого сегмента норм международного права. Они «снимаются» двумя условиями при принятии норм международного права: государство делает это добровольно и избирательно в соответствии со своими собственными интересами, целями и особенностями национальной правовой системы. Если есть какие-то противоречия между двумя видами норм, как правило, государство корректирует массив национальных норм. Напомним, что наша страна более полутора десятилетий добивалась вступления в ВТО. Влияние международных норм на внутригосударственное регулирование сервисной деятельности трудно переоценить [6, с. 244-245; 12].
Соглашение ГАТС направлено на регулирование международной торговли услугами. В действительности, его влияние на правовое регулирование сервисной деятельности гораздо шире. Это верно и по формальноюридическим основаниям (на его базе создан Классификатор услуг ВЭД) и с содержательной стороны (технологической, организационной и экономической).
Единственное легальное определение социально-культурных услуг, содержащееся в национальном стандарте РФ ГОСТ Р 506462012 «Услуги населению. Термины и определения» находится в коллизионном отношении с другими нормативно-правовыми актами, что явствует из приведённого выше краткого анализа. Можно предложить вариант определения понятия «социально-культурные услуги», основанный на классификации ГАТС. Так как в них не выделяется само это понятие, мы вынуждены его «конструировать» аналитически. В «Классификационном перечне секторов услуг» (именно так именуется соответствующий раздел ГАТС) к социально-культурным услугам можно отнести услуги секторов «V.
Услуги в области образования», «IX. Туризм и услуги, связанные с путешествиями», «Х. Услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий (кроме аудиовизу-альныхуслуг)» [25].
Предложенную классификацию нельзя считать идеальной. Она достаточно условна. Сразу же заметны несоответствие видов сервисной деятельности как объектов правового регулирования и их экономического, технологического, культурного содержания. Например, туризм невозможно представить себе без услуг по перевозке пассажиров. За редким исключением (пешеходный (пеший), конный, велотуризм, сплавы (рафтинг) и т.п.), турист всегда - пассажир. Однако в Классификаторе ГАТС (и, соответственно - КУВЭД) они разнесены в разные разделы.
Мы можем констатировать, что единообразного (не противоречивого) определения социально-культурных услуг в системе правовых отношений не удалось установить.
Справедливости ради нужно отметить, что классификация услуг является очень сложным делом. Прежде всего, по причине комплексного характера многих конкретных видов услуг. В Общероссийском классификаторе услуг населению ОК 002-93, который утратил свою силу с 1 января 2017 года, ритуальные услуги были отнесены к бытовому сервису. Действительно, этот комплекс может включать такие элементы как поминальная трапеза. С точки зрения правового регулирования это - услуги общественного питания. Однако все элементы ритуальных услуг определяются преимущественно культурными факторами [10, с. 5-8]. Более того, они очень часто имеют сильнейшую религиозную окраску. Бытовые мотивы и цели имеют третьестепенное значение. Цель является главным элементом всякой деятельности. Питание и услуги временного размещения туристов -важная составная часть большинства туров (туристских поездок), однако это не делает туризм бытовым сервисом.
Специфические характеристики социально-культурных услуг
Можно указать общие признаки всех выделенных выше услуг.
Первое: деятельность исполнителя услуги направлена исключительно и непосредственно на потребителя услуг (услуги).
Второе: потребителем социальнокультурных услуг может быть только человек (физическое лицо или гражданин, говоря юридическим языком).
Третье: результат исполнения услуги не имеет вещественного характера. Раскроем содержание данного положения: имеется в виду то, что в результате сервисных действий не происходит создания или изменения в желательном направлении (трансформации) какой-либо вещи, внешней по отношению к потребителю. Разумеется, это утверждение верно только в том случае, если мы не признаём за вещь человека - потребителя услуг (в процессе обслуживания с ним могут и должны происходить зримые, осязаемые изменения).
Если мы сравним по трём предложенным параметрам социально-культурный сервис с другими типами сервиса (бытовой (химчистка, стирка, клининг), финансовый и т.п.), мы увидим совершенно отчётливые различия.
Четвёртое: в социально-культурном сервисе процессы исполнения услуг и потребления услуг связаны неразрывно. В специальной литературе как на очень важную характерную черту сервиса указывают на неотделимость исполнителя услуги от процесса её оказания. Отсюда вытекает нормативное требование о том, чтобы исполнитель (как правило) лично производил услугу, а не передавал её исполнение неким третьим лицам. Данное нормативное требование связано с необходимостью обеспечения качественного результата в процессе исполнения услуги. На наш взгляд, данное требование не имеет принципиального значения в некоторых видах сервиса. Например, при оказании финансовых услуг: потребителю неважно, какой конкретно банк предоставит ему кредит. Важно то, какими характеристиками обладает кредитный продукт. Другой пример ещё более показательный. Туроператорская деятельность в принципе не предусматривает оказания туристских услуг непосредственно туристу. Этим занимаются гостиничные предприятия, перевозчики туристов, экскурсионные бюро и т.п. Однако, с правовой точки зрения сторонами отношения (субъектами) являются турист и туроператор.
Пятое: на наш взгляд, при оказании социально-культурных услуг принципиально важное значение имеет следующая особенность этого процесса: потребителя невозможно ни в пространстве, ни во времени отделить от процесса производства услуги. Именно потому, что на достижение результата при исполнении этого вида услуг влияет личность самого потребителя как неустранимый и важнейший фактор процесса исполнения услуг. Зависимость результата сервисного процесса от особенностей личности потребителя прекрасно видна на примере типичных социально-культурных услуг, какими являются образовательные услуги. Вследствие этого в социально-культурном сервисе исполнитель не может гарантировать потребителю 100% качественный результат исполнения услуги усилиями только со своей стороны. Заметим, что выше обозначенные особенности присущи не только социально-культурным услугам. Они характерны, например, для медицинских услуг. На наш взгляд, положение о нестабильности качества результатов исполнения услуг как общей, «родовой», черте всех видов сервиса, неправомерно. Это нехарактерно для тех видов сервисной деятельности, в которых результат полностью определяется действиями исполнителя услуг. Например, при оказании бытовых, производственных, финансовых услуг7. Устранить эту характеристику социально-культурных услуг невозможно в принципе.
Представленная выше сводка характерных особенностей конкретных видов сервиса может служить базой для агрегирования комплекса социально-культурных услуг по крайней мере на аналитическом уровне.
Специфика механизмов регулирования социально-культурных услуг
Описанные выше характерные черты социально-культурного сервиса накладывают определённые ограничения на применение в его регулировании конкретных правовых средств. Во-первых, в социально-культурном сервисе ограничено использование таких важных инструментов управления как стандартизация и сертификация продуктов деятельности. В реальности контролирующие (регулирующие) органы могут оценить (сертифицировать) только средства деятельности, но не её продукт.
Во-вторых, в ряде конкретных видов социально-культурных услуг невозможно использовать полный арсенал средств правовой (судебной) защиты. Это касается, в частности, игорной индустрии, образовательных услуг, публичных конкурсов, лотерей.
В-третьих, специфический характер социально-культурных услуг отражается на функционировании механизма международного регулирования сервисной деятельности. Традиционно в международном праве используются как тарифные (пошлины, сборы, налоговые платежи), так и нетарифные (квоты, лицензии и т.п.) средства регулирования. В международной социально-культурной деятельности тарифные меры практически не применяются. Их применение диктуется внешними по отношению к данному виду деятельности целями. Например, использование платных въездных виз8 государствами в международном туризме определяется политическими целями.
При изучении места социальнокультурных услуг в механизме правового регулирования невозможно ограничится одной отраслью права. В приведённом выше изуче- нии использованы элементы как минимум следующих отраслей права (правовой системы): гражданское, налоговое, административное, международное [публичное] право.
Более или менее естественно возникает вопрос о существовании особой отрасли права для сферы услуг. Специалисты обратили внимание на одну примечательную тенденцию в изучении правовой и около правовой реальности: для каждой группы однородных или близких объектов регулирования «конструируется» соответствующая отрасль права. Эта активность распространяется в основном на сервисные виды деятельности. Появился учебник «Сервисное право» [15]9, работы, посвящённые «[международному] туристскому праву»10, «спортивному» и «образовательному» праву (с соответствующей «наукой») [23, с. 64-65]11 Среди специалистов-правоведов прошла довольно острая дискуссия по поводу появления новых «отраслей» права. Ряд отечественных специалистов, в том числе один из ведущих российских цивилистов Е.А. Суханов, высказали однозначно отрицательное отношение к подобным теоретическим конструктам. Специалисты разделились также по очень важному вопросу: можно ли квалифицировать всякую образовательную деятельность как оказание услуг. Деятельность по обучению в отечественных нормативноправовых актах квалифицируются как образовательные услуги. Суханов Е.А. и сторонники его позиции считают, что общее образование, в том числе – профессиональное, не может считаться услугой. Правовой характер услуг может иметь лишь дополнительное образование [23, с. 62-63].
В анализе правового положения социально-культурных услуг мы могли бы пойти условно «этимологическим» путём. Рассмотреть «социальные» и «культурные» услуги и создать своеобразный «аналитический гибрид». Спектр видов деятельности, которые с правовой точки зрения трактуются как оказание услуг ( сервис ) за последние 2-3 десятилетия существенно расширился. Кроме указанных выше, к сервису относят деятельность государственных и муниципальных органов власти (государственные услуги).
Примечательно то, что в рассматриваемых классификациях не выделяются в отдельную группу социальные услуги: пенсионное обеспечение, деятельность, направленная на обеспечение занятости, регулирование режимов труда и отдыха и т.п. В качестве услуг по социальной помощи они объединены с услугами здравоохранения. Это тем более странно, что уже зримо сформировались контуры социального ( социально-трудового ) права как особой отрасли права. То же относится к культурным услугам. Важность тех и других не подлежит сомнению. Однако как предмет правового регулирования они не выделяются. Относительно культурных услуг можно предполагать, что дело в том, что, во-первых, само понятие культура , как и его производные, крайне многозначно; во-вторых, грань, отделяющая культурные услуги от культурных благ, крайне неопределённая.
Заключение. Подводя итоги изучения данной проблематики с достаточной долей определённости можно констатировать следующие положения:
-
- в среде специалистов, исследующих обозначенный выше круг проблем, существуют глубокие теоретические расхождения по вопросам правовой природы сервиса в целом, и социально-культурных услуг – в частности;
-
- в рамках правовой системы не сформировано унифицированного (непротиворечивого) легального (нормативного) определе-
- ния правовых элементов сервисной деятельности. Это справедливо в отношении правовой специфики сервисных явлений и классификации видов услуг;
-
- предложенная совокупность специфических особенностей социально-культурных
услуг позволяет выделить их аналитически в совокупности видов сервиса. Выражаем скептицизм в перспективности формирования легального (нормативного) регулирующего комплекса (отрасли права), имеющего своим объектом социально-культурные услуги.
Список литературы Социально-культурные услуги как объект правового регулирования
- Арсланов К.М. Договор возмездного оказания услуг в системе гражданско-правовых договоров//Вестник экономики, права и социологии. 2007. №1. С. 70-75.
- Волошин Н.И. Правовое регулирование туристской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1998. 120 c.
- Вольвач Я.В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: монография. М.: Норма, 2012. 128 с.
- Дроздова А.В. Понятие и содержание услуги как объекта гражданских прав//Сибирский юридический вестник. 2003. №1. С. 39-44.
- Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. М.: Экономика, 2003. 315 с.
- Ивлев С.В. Компаративный анализ организационно-правового статуса субъектов туристской деятельности в России и Казахстане//Вестник НГУЭУ. 2014. С. 243-250.
- Ивлев С.В. Особенности нормативного (правового) обеспечения международного (трансграничного) туризма//Сервисные технологии: теория и практика. 2012. С. 80-84.
- Ивлев С.В. Правовое (легальное) оформление производственно-экономического статуса участников процесса реализации туристского продукта//Сервисные технологии: теория и практика. 2009. С. 45-59.
- Каримова Д.Ш. Разница между услугами и работами в ГК//Гражданское право и гражданский процесс. 2013. №2(3). С. 3-7.
- Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг (вопросы качества обслуживания). М.: Изд-во «Экономическое образование», 2013. 224 с.
- Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. М.: Финансы и статистика, 2004. 144 с.
- Михеева Н.А. Методы государственного управления и регулирования в социально-культурной сфере: сравнительный анализ международного опыта//Управление общественными и экономическими системами. 2008. №1. URL: http://umc.gu-unpk.ru/umc/arhiv/2008/1/miheeva.pdf (Дата обращения: 06.03.2017).
- Писаревский Е.Л. Туризм и обеспечение его безопасности: административно-правовой аспект: монография. М.: Юрист, 2011. 496 с.
- Писаревский Е.Л. Туристская деятельность: проблемы правового регулирования. Владивосток: Ин-т междунар. туризма, 1999. 278 с.
- Приходько Е.П., Гущин Е.Е., Пахомов В.Д. Сервисное право. М.: Дашков и Ко, 2003. 396 c.
- Руденко А.В. Юридическое содержание понятия «товар»//Вестник ОГУ. 2005. №4. С. 69-76.
- Руководство по статистике международной торговли услугами, 2010 год (РСМТУ-2010). Издание ООН: статистические документы. Серия M № 86/Rev.1, Нью-Йорк, 2011.
- Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве. М.: Изд-во Волтерс Клувер, 2007. 112 с.
- Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. М.: Изд-во Волтерс Клувер, 2006. 160 с.
- Сирик Н.В. Договор оказания туристских услуг в гражданском праве России. Автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2001.
- Севостьянов М.В., Шаронов С.А. Гражданско-правовое регулирование концертных услуг и охрана прав их участников. Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2009. 300 с.
- Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М.: Статут, 2005. 349 с.
- Суханов Е.А. Осторожно: гражданско-правовые конструкции!//Законодательство. 2003. №9. C. 60-65.
- Сырых В.М. История и методология юридической науки. М.: Норма, 2012. 464 с.
- Услуги в современной экономике/Отв. ред.: Л.С. Демидова, Л.Б. Кондратьев. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 342 с.
- Хамитова Н.А. Некоторые закономерности современных услуг, их свойства и классификация//Экономика и управление в сфере услуг: современное состояние и перспективы развития. Матер. XII Всеросс. научно-практ. конф. СПб: СПбГУП, 2015. С. 16-20.
- Чулюкин И.Л. Некоторые проблемы НДС РФ//Вестник экономики, права и социологии. 2015. №4. С. 252-255.
- Шлихтер А.А. Социальные услуги в системе американского федерализма. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 144 c.
- Якубова Н.Г. Международно-правовое регулирование аудиовизуальных услуг связи в рамках ВТО. Автореф. дис. …канд. юр. наук. М., 2010.
- Burri M. Cultural Diversity as a Concept of Global Law: Origins, Evolution and Prospects//Diversity. 2010. Vol. 2(8). Pp. 1059-1084 DOI: 10.3390/d2081059
- Irion K., Valcke P. Cultural diversity in the digital age: EU competences, policies and regulations for diverse audiovisual and online content. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Müller M. Wa(h)re Kunst -Kulturgutschutz zwischen persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Bindung//Kulturpolitische Mitteilungen. 2016. No. 153 -II. P. 26-32.