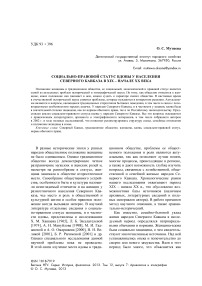Социально-правовой статус вдовы у населения Северного Кавказа в XIX – начале XX века
Автор: Мутиева Оксана Саидовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 7 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Положение женщины в традиционном обществе, ее социальный, экономический и правовой статус является одной из актуальных проблем исторической и этнографической науки. По тому, как общество относится к женщине, какое положение она занимает в нем, можно судить о характере самого общества. В настоящее время в отечественной исторической науке ставятся проблемы, которые нуждаются в конкретном решении. Актуальными являются и вопросы, касающиеся традиционных стереотипов бытового поведения, в том числе в связи с половозрастными особенностями терских казачек. У народов Северного Кавказа, и в частности у казаков, вдова была в значительной степени защищена, как по нормам обычного права, так и по Российскому законодательству. Представлен анализ социально-правового статуса вдовы у народов Северного Кавказа. Все эти вопросы освещаются с привлечением литературного, архивного и этнографического материалов, в том числе собранного автором в 2002 г. в ходе полевых исследований, что позволяет реконструировать структуру семьи, семейные отношения и положение женщины в семье.
Северный кавказ, традиционное общество, женщина, вдова, социально-правовой статус, нормы обычного права
Короткий адрес: https://sciup.org/147218902
IDR: 147218902 | УДК: 93
Текст научной статьи Социально-правовой статус вдовы у населения Северного Кавказа в XIX – начале XX века
В разные исторические эпохи у разных народов общественное положение женщины не было одинаковым. Однако традиционное общество всегда демонстрировало четкое разграничение мужских и женских ролей и, несмотря на разнообразие в статусе, женщина занимала в обществе второстепенное место. Своеобразие общественного устройства, особенности быта и культуры наложили неизгладимый отпечаток и на женщин у разноэтничного населения Северного Кавказа, чье место и роль в общественной и культурной жизни и особое правовое положение всегда вызывали интерес. В научной литературе отдельные сведения о социально-правовом статусе женщины, и в частности вдовы, представлены в исследованиях Х. М. Хашаева [1965], Л. Б. Заседателевой [1974], А. Н. Мануйлова [1998], М. И. Гаджиевой и А. О. Омаршаева [2000], Н. Н. Великой [2001], Б. Р. Рагимовой [2001] и др. Однако специального исследования данной научной проблемы пока не проведено. В этой связи изучение места вдовы в тради- ционном обществе, проблемы ее общественного положения и роли являются актуальными, так как позволяют лучше понять многие процессы, происходящие в регионе, а также и дают возможность глубже изучить вопросы, связанные с хозяйственной, общественной и семейной жизнью народов Северного Кавказа. Хронологические рамки нашего исследования охватывают период XIX – начала XX в., что обусловлено возможностями базы источников (наличием архивных, литературных сведений и полевых материалов автора). В работе применен метод научного описания, а также сравнительно-исторический.
Как известно, семейно-бытовой уклад жизни народов Северного Кавказа в исследуемый период определялся патриархальными обычаями и нормами. Женщина-вдова была социально защищена, о чем свидетельствуют многочисленные источники. Над ней устанавливались опека и попечительство до смерти или нового замужества. Вдов в этот период было много, что объясняется как
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 7: Археология и этнография © О. С. Мутиева, 2013
многочисленными войнами, так и институтом «кровной мести». Важным фактором, определяющим статус вдовы, следовательно, и ее права, был возраст. Пожилые женщины всегда пользовались неизменным вниманием и уважением.
Интересные сведения о статусе женщины-вдовы содержатся в исследовании Б. Р. Рагимовой. По ее мнению, положение вдовы у дагестанских народов зависело от того, насколько она могла реализоваться как женщина и мать. Так, в некоторых семьях женщина, «оставшись без мужа, в неразделенной семье не могла считать себя главой семьи. Эти обязанности возлагались, как правило, на старшего сына» [2001. С. 16]. Рассматривая этот же вопрос, М. И. Гаджиева и А. О. Омаршаев указывают, что «после смерти отца вся власть переходила к матери, а после ее смерти всеми делами семьи ведали старший сын и его жена» [2000. С. 100]. Однако обычное право в данном случае четко различает статус вдовы-хозяйки большой семьи, в подчинении которой находятся взрослые сыновья, и статус вдовы-хозяйки семьи малой. Так, по нормам ингушского адата женщина могла унаследовать одну корову. Если у покойного не было детей, то вдова получала четвертую часть движимого имущества 1. У многих народов на Северном Кавказе женщина не могла быть субъектом договорного права, но исключение делалось для вдов, которые вели собственные хозяйства. М. У. Дзидзоев, указывая на этот факт, пишет: «…дееспо-собным мог быть лишь тот, кто отошел от отцовской власти, не находился под опекой, вел самостоятельное хозяйство» [1979. С. 54]. Часто их делами ведали доверенные лица (брат покойного мужа, взрослые сыновья и другие, например, авторитетный сельчанин) 2. Не следует упускать из виду и то, что вдова, став главой семьи, вовсе не теряла своих позиций среди женской половины семьи.
Рассмотрим некоторые вопросы, касающиеся молодой вдовы. Безусловно, брак со вдовой считался менее почетным и поэтому сопровождался меньшими торжествами. Как и у других горцев, у дагестанцев было в обычае заключать браки с вдовой покойного брата. Но у чеченцев, например, эти браки носили почти обязательный характер, а у дагестанцев – факультативный 3.
Как правило, желание самой вдовы не было обязательным. По свидетельству дагестанского исследователя Б. Далгата, «…в селах Даргинского округа, отец лишил дочери-вдовы земли, данной ей при вступлении в первый брак, за то, что она не вышла при повторном браке за кого он хотел ее выдать» 4. Аналогично поступали и в других дагестанских обществах. Так, например, по законам Мехтулинского ханства, «если кто-либо пожелает вступить в брак с вдовой умершего брата, вдова же не изъявит согласия на его предложение, то она по существующему обычаю высылается из дома умершего мужа с лишением всех прав на получение как доставленного ей со стороны мужа, так и приданного со стороны родителей» [Сборник адатов… 1965. С. 209]
О статусе вдов-казачек следует сказать особенно. Они обладали сравнительно большими правами, и это касалось казачества в целом, не только терского. В силу военизированного уклада жизни, многочисленных войн, в которых принимали участие казаки Северного Кавказа, встречались станицы, где почти половина женского населения являлись вдовами. По мнению В. Н. Ра-тушняк, объяснялось это «всеобщей воинской повинностью в казачьих войсках и более частой гибелью казаков в сравнении, например, с теми же крестьянами» [1995. С. 12]. Личностную защиту вдове гарантировали нормы обычного права и государственные законы. Так, согласно положению о «Войсковом (хозяйственном) правлении Черноморского (Кубанского) казачьего войска» вдова получала от станичного общества материальную поддержку и была социально защищена, что нашло отражение и в юридических актах того времени 5. По мнению Н. Н. Великой, «о них в станицах заботились всей общиной. Для них не только сеяли специальный пай, но и наделяли их особыми правами» [2001. С. 138]. Л. Б. Заседате-лева указывает на то, что не только вдовы находились под опекой станицы, но и их дети: «Иногда, оставшиеся земли превращали в сиротский пай, которыми наделяли сирот» [1974. С. 236].
Безусловно, вдовство предполагало целый комплекс стереотипных форм поведения для женщины, оставшейся вдовой в брачно-способном возрасте. Интересные сведения по этому вопросу затронуты в исследованиях А. Н. Мануйлова. По его мнению, после смерти мужа такая женщина имела возможность выбрать: уйти в родительский дом либо выделиться в самостоятельное хозяйство. Но этот выбор не всегда зависел от желания вдовы. Наиболее важными факторами были следующие: отношение к этому вопросу семьи мужа, наличие или отсутствие детей, способность и желание семьи отца принять ее. Бывало, что мнение свекра и вдовы по этому вопросу не совпадали: вдова желала уйти в свою родную семью, а свекор противился этому и не выделял ей положенного надела. В этом случае вдова уходила самовольно, а затем обращалась в станичный суд с просьбой возвратить ее имущество из семьи свекра или возместить его стоимость [1998. С. 42– 43].
Ценным источником для исследования данной проблемы является собранный нами в 2000-х гг. полевой этнографический материал в Кизлярском районе Дагестана, позволяющий реконструировать семейные отношения и положение женщины в семье терских казаков. По свидетельству наших информаторов, ощутимую материальную поддержку после смерти мужа вдова получала от своих родителей. По этому поводу жительница станицы Дубовская Анисья Филипповна Юрченко (1928 г. р.) нам сообщила, что ее дед по матери много сделал для их семьи: доделал сарай и хату, отделил мать и пятерых детей, дал в хозяйство пару быков, корову. Все это позволило ее матери-вдове жить своим хозяйством (ПМА: А. Ф. Юрченко).
Как отмечалось выше, статус вдовы зависел от того, какую семью она возглавляла: большую или малую. Все благосостояние семьи зависело теперь от вдовы-хозяйки, от ее умелого управления. И в данной ситуации она должна была показать свой волевой характер. По мнению А. Н. Мануйлова, «…мужские стереотипы поведения были свойственны таким женщинам при руково- дстве сыновьями, а иногда и зятьями, при принятии хозяйственных и других важных решений (например, решение о разделе семьи, о передаче семейных сбережений и ценностей в наследство), в ситуациях представительства семьи на станичном сходе. Женские же стереотипы поведения ими по-прежнему реализовывались в руководстве невестками и дочерьми» [1998. С. 46].
На примере горских евреев Кабардино-Балкарии положение женщины-вдовы в семье рассматривал Ю. И. Мурзаханов. По его мнению, в условиях существования большой патриархальной семьи власть главы «бебе» (отца) была практически неограниченной. Так, например, в случае смерти отца, если сына не было, такой семьей управлял кто-либо из ближайших родственников-мужчин (ни вдова, ни старшая дочь не имели права возглавлять «кифлет»). Безусловно, бесправное положение женщины объяснялось и предписаниями иудейской религии. Но при всем этом большим авторитетом пользовалась старшая женщина, обычно жена главы семьи («келезэн»), которая единолично распоряжалась домашним хозяйством; помимо этого, все женщины «келекифлет» находились в ее прямом подчинении. В случае смерти «келезэн» или ее физической неспособности исполнять свои обязанности управление домашним хозяйством переходило к старшей снохе [2002].
В целом же относительно особенностей социального и правового статуса женщины-вдовы в традиционном обществе на Северном Кавказе можно сделать вывод, что последний обладал высокой степенью вариативности. При этом важнейшей особенностью внутрисемейных отношений являлось то, что положение женщины-вдовы напрямую зависело от обязанностей и функций, возложенных на нее. Все выше перечисленные и рассмотренные аспекты положения вдовы в патриархальном обществе положительно влияли на чувство уверенности женщины в завтрашнем дне, на ее относительную материальную независимость. Женщина-вдова на Северном Кавказе имела определенные права, но в то же время было бы неверным утверждать, что она обладала всеми социальными гарантиями. Ее положение не было однозначным, в одних случаях на страже прав вдов стояли и законы, и само общество, а в других ей приходилось отстаивать свои имущественные права. Институт вдовства предполагал определенный сценарий поведения согласно возрасту женщины, ее статусу, а также традиций самой семьи.
Список литературы Социально-правовой статус вдовы у населения Северного Кавказа в XIX – начале XX века
- Великая Н. Н. Казаки Восточного Предкавказья XVIII-XIX вв. Ростов н/Д, 2001. 278 с.
- Гаджиева М. И., Омаршаев А. О. Семья народов Дагестана в историческом развитии. Махачкала: Стиль, 2000. Ч. 1. 160 с.
- Дзидзоев М. У. Общественно-политическая и государственно-правовая мысль в Северной Осетии (вторая половина XIX - начало XX в.). Орджоникидзе: Ир, 1979. 246 с.
- Заседателева Л. Б. Терские казаки (середина XVI - начало XX в.): Историко-этнографические очерки. М.: Изд-во МГУ, 1974. 423 с.
- Мануйлов А. Н. Статус женщины в обычно-правовой системе казачьей семьи и станичного общества на Кубани (вторая половина XIX - 20-е годы XX века). Армавир; Краснодар, 1998. 65 с.
- Мурзаханов Ю. И. Семейная обрядность горских евреев Кавказа // Горские евреи Кавказа: Материалы междунар. науч. симп. Баку, 2002. С. 119-127.
- Рагимова Б. Р. Женщина в традиционном дагестанском обществе ХIХ - начала ХХ в. (роль и место в семейной и общественной жизни): Автореф. дис. …канд. ист. наук. Махачкала, 2001. 26 с.
- Ратушняк В. Н. Некоторые аспекты изучения казачества на современном этапе // Проблемы истории казачества: Сб. науч. тр. Волгоград, 1995. С. 12-16.
- Хашаев Х. М. Памятники обычного права Дагестана XVII-XIX вв. М.: Наука, 1965. 268 с.