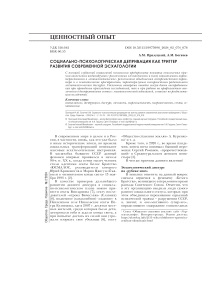Социально-психологическая депривация как триггер развития современной эсхатологии пробуждения
Автор: Прилуцкий А.М., Богачев А.М.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 2 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
С позиций глубинной социальной психологии предпринята попытка осмысления причин вовлечения индивидуумов с различными личностными и (или) социальными характеристиками в «апокалиптические» религиозные объединения экстремистского характера и в семантическое пространство, характеризуемое полярностями радикального эксхатологического дискурса. Сделанные авторами выводы могут быть востребованы как при проведении прикладных исследований, так и при работе по профилактике вовлечения в деструктивные секты с эсхатологической идеологией, а также по реабилитации их адептов.
Апокалипсис, деструкция, дискурс, личность, маргинальность, пограничность, секта, эсхатология
Короткий адрес: https://sciup.org/140306956
IDR: 140306956 | УДК: 316.642 | DOI: 10.53115/19975996_2024_02_074_078
Текст научной статьи Социально-психологическая депривация как триггер развития современной эсхатологии пробуждения
Общество. Среда. Развитие № 2’2024
В современном мире в целом и в России, в частности, вновь, как это уже было в иные исторические эпохи, во времена социальных трансформаций возникают массовые эсхатологические настроения. В масштабах бывшего СССР данный феномен впервые проявился в начале 90-х гг. XX в., когда сотни тысяч человек стали адептами секты Белое Братство «ЮСМАЛОС, руководители которого Юрий Кривоногов и Мария Цвигун объявили о «неминуемом конце света» 13 ноября 1993 г. [2].
В качестве примеров дальнейшего развития данного дискурса в социально-психологическом плане можно привести секты Виссариона [7], секту последователей «отрока Вячеслава» (Славика) [8], подземное (катакомбное) «сидение» в Пензенском селе Никольское секты Петра Кузнецова, где в 2007 г. десятки местных жителей, среди которых были дети, замуровали себя и ждали конца света, а при попытке достать их силой они угрожали взорвать свое убежище [6], секту
«Общество спасения землян» А. Куренко-ва1 и т. д.
Кроме того, в 2020 г., во время пандемии, конец света возвещал бывший иеромонах Сергий Романов, «пророчествовавший» в Среднеуральском женском монастыре [5].
В чем же причина данного явления?
Эсхатологический дискурс на «рубеже эпох»
В попытке ответить на данный вопрос сначала вернемся к феномену «Белого Братства», возникшего в переломное время распада Советского Союза. Отметим, что в эту организацию входили люди самого разного социального статуса, которых при этом объединяло переживание серьезной психической травмы – разрушения СССР, а, значит, и «коллективного супер-эго», определявшего содержание сознательных доминант большинства советских людей и направлявшего (канализировавшего) их бессознательные психодинамические процессы. В такой ситуации естественным является актуализация состояний, релевантных первичным экзистенциальным данностям и психической реальности, соответствующей архаическому мышлению с зачастую проявляющейся тенденцией к доминированию деструктивных влечений.
Отметим, что, как отмечает Т. Корпа-чева, «напряженное апокалиптическое ожидание в закрытых квазирелигиозных группах часто ведет к преступлениям: перед ожидаемым концом света люди легче по приказу своего гуру расстаются с недвижимостью, и если человек поверил в конец света, то его можно заставить сделать всё что угодно, чтобы предотвратить апокалипсис»2.
Деструктивные явления доминируют здесь во многом вследствие того, что возникающее в результате краха «эго-структур» трансцендетное состояние сопрягается со слабостью способности удерживать и усиливать внутреннее чувство сопричастности, что усиливает влияние влечения к смерти и его дериватов (ненависти, обиды, злокачественной агрессии).
Представленные выше рассуждения могут объяснять активизацию эсхатологического дискурса на «стыке эпох», однако как объяснить тот факт, что в XXI в. на территории некоторых стран аналогичные процессы происходят если не в таком же масштабе, то с очевидной регулярностью, несмотря на относительную стабильность российского общества?
Почему значительное количество наших современников, включая молодежь [14], выбирали и выбирают уход в «пограничные» психические состояния с отказом от нормальной социальной жизни даже в относительно спокойное время?
Да, в случае с подростками и молодежью вовлечение их в эксхатологический дискурс может быть объяснено упомянутыми выше возрастными особенностями (переживания краха прежних идентификаций и формирования новой идентичности как «личного конца света» и неосознаваемый духовный поиск, усиливающийся в рамках культуры потребления [13]), во многом схожими с особенностями переживания смены тех или иных эпох взрослыми людьми [5].
Однако что же побуждает взрослых людей в спокойные времена «выпадать» из нормальной жизни и уходить в маргинальное, пограничное состояние?
Эсхатологический дискурс и пограничные личности
Отвечая на поставленный выше вопрос, мы выходим на внешне парадоксальное, «двоякое» объяснение данного факта.
С одной стороны, в эсхатологический дискурс и, особенно, в секты «последних дней» могут уходить личности, которые могут быть сравнительно хорошо социализированы с точки зрения стратификации по критерию материального благополучия, но не выдерживающие напряжения, возникающего вследствие внутрипсихи-ческих конфликтов (в психологии такие личности относятся к категории «пограничных» [10]), и при этом не имеющие возможности в нормальной, созидательной «духовной инициации» и (или) духовного развития в условиях секуляризации, свойственной обществу потребления. Другими словами, речь здесь идет о серьезной депривации потребности в здоровом духовном и психологическом развитии, накладывающейся на определенную личностную конституцию.
Если для достаточно зрелой личности поиск трансцендентных переживаний приводит к духовному росту (пусть и зачастую через кризис), то в случае погра-ничности личности переживания духовного характера без зрелого духовного (духовно-психологического) сопровождения могут вызывать дезинтеграционные процессы с бесконтрольным прорывом дериватов влечения к смерти (ненависти, терминальной агрессии и аутоагрессии, смене паранойи и уныния). Соответственно, секты, предлагающие релевантный этим состояниям и переживаниям дискурс, являются притягательными социальными группами для пограничных личностей, изначально входящих в сравнительно благополучные в материальном плане социальные страты, но не имеющих возможности быть приобщенными к традиционным институтам духовно-религиозного плана.
Для прояснения вышесказанного, приведем психический факт, который открывается человеку и так или иначе присутствует на всем протяжении, его жизни, может быть описан через формулу «я есть». Отмечается, что «Я-есть» – это не сами по себе ощущения, эмоции, мысли, а источник ощущений, эмоций и мыслей,
Общество
Общество. Среда. Развитие № 2’2024
способность их испытывать, переживать. Обращение к «чистому» центру «я», так или иначе вызывает к жизни всё то, что является бессознательным под влиянием сиюминутных переживаний, а именно феномены, связанные с любовью и со смертью, тогда как осмысление и переживание данных феноменов очень часто вызывают даже не страх, а ужас. В работе одного из соавторов настоящего материала приводится следующий мыслительный эксперимент: «Сначала вспомните какой-то эпизод из начала Вашей жизни (как можно ближе к раннему детству). Разрешите себе сконцентрироваться на том, что Вы видите, ощущаете, слышите в этот момент. Затем, прочертив воображаемую линию жизни, перейдите к какому-либо более позднему событию. После этого переместитесь в настоящий момент и сделайте новый шаг вперед, в некую точку будущего. А теперь шагните... в момент собственного умирания... Не правда ли, с момента начала жизни, по крайней мере, осознанной, прошел всего один миг? И такой же миг остался до смерти? Получается, что жизнь – это один миг (тут появляются новые практически значимые закономерности переживания времени и вечности, такие, например, как ускорение времени, которое в детстве течет медленно, а со взрослением всё быстрее)» [3, с. 9].
Таким образом, погружаясь в экзистенциальный поток «здесь и теперь» и выходя за пределы нормального «эго-сознания», человек обращается к феноменам «мгновенности жизни» и «предельной близости смерти». И восприятие этих феноменов присутствует, хотя бы бессознательно, у каждого человека любого уровня образования и любого социального статуса. Очевидно, что «предельная близость смерти» представляет собой явный предвестник «личного конца света» (и, согласно теории объектных отношений, попытки избежать перехода в «депрессивную позицию» с фиксацией на «параноидально-шизоидной» [12]), хотя бы как этапа внутренней трансформации (в том числе связанного с переходом от детства к взрослости), соответствующего психологическому и духовному развитию. Соответственно, при депривации потребности в здоровом, созидательном преодолении ужаса, возникающего при восприятии «личного апокалипсиса» (а такое преодоление предлагает, например, Православная церковь) происходит болезненная фиксация на радикальном эсхатологическом дискурсе.
Образ конца света, выступающий как символ внутренней трансформации, иногда воспринимаемой пограничной личностью как катастрофа, может переноситься пограничной личностью и на события коллективного характера любого масштаба. При этом данный перенос способен смягчать (хотя бы временно) тревогу, повышая чувство собственной значимости и давая ощущение принадлежности к чему-то большему, чем индивидуальное «я», что, особенно значимо для подростков и молодежи, проходящей через цикл смер-ти/рождения «эго» [3; 4; 11].
Более того, он придает определенный, пусть и иллюзорный, смысл происходящим в контексте «личной эсхатологии» событиям и позволяет временно, посредством формирования иллюзий преодолевать страх смерти (а также парадоксальным образом «легитимно» следовать влечению к смерти) за счет опять же, принадлежности к некоей группе, а не с помощью собственной душевной ра-боты3.
Эсхатологический дискурс и маргинальная социальная среда
Вместе с тем, эксхатологический дискурс притягивает и тех, кто в силу обстоятельств (например, по месту и времени рождения) оказался вне зоны материального социального благополучия. Прежде всего, речь, конечно, идет о наиболее бедных регионах и местностях, таких как полузаброшенные села и городские трущобы, представляющие собой пространства отката в «теневую» архаику. В этой архаике, куда устремляются «пограничные личности» и дезориентированная молодежь из городов, находятся и те жители депрессивных территорий, у которых не хватает ресурсов для прорывного развития. Замкнутость в маргинализированной или искусственно маргинализированной среде создает ситуацию социальной депривации, в своем роде зеркально отражающей ситуацию с депривацией духовной и психологической.
В обоих случаях срабатывает так называемая копинг-стратегия «бегства-избегания» [9], когда личность вместо продуктивного, пусть и трудного развития, предпочитает «укрываться» в «средней зоне фантазий», находя для нее психический и материальный эквивалент (в том числе и в форме разрушительных действий) и проецируя их на «родительскую фигуру» лидера секты, от которой, в свою очередь, получают «верификацию» своих фантазий в режиме проективной идентификации [4].
Тогда и возникают ситуации, подобные описываемым в свое время журналистами в отношении «пензенских сидельцев»: «43-летний Кузнецов, он же отец Петр, имеет высшее образование – диплом строительного института, женат, его сыну 18 лет. Прихожанами его “молельного дома” являются приезжие из Ростова, Белоруссии, Подмосковья. Эти люди купили дома полтора года назад в Никольском и соседней деревне Поганов-ке. Отец Пётр учил не смотреть телевизор, не слушать радио, паспорт сжечь, и деньги в руки не брать. Своим детям прихожане запрещали посещать школу, а потом забрали их с собой в пещеру. Сейчас вход в подземелье завален, а единственный признак жизни – дым, выходящий на поверхность»4.
Уход из нормального социума одновременно в «подземелья» собственной психической реальности и тот или иной вариант катакомб позволяет отказаться и от созидательного духовного труда, и от трудных попыток найти социальные «лифты» в условиях сложной внешней среды или (и) дефицита соответствующих социальному адаптивных черт личности.
Выводы
Итак, в «апокалиптических сектах», специфической характеристикой которых является доминантный и радикальный эсхатологический дискурс, объединяются как индивидуумы со склонностью к пограничному расстройству личности и соответствующей ему инфантильностью, так и индивидуумы, силой обстоятельств погруженные в маргинальную социальную среду и через уход в «пограничность» гиперкомпенсирующие дефицитарность своей жизни.
И для тех, и других ключевым фактором вовлеченности в радикальный эсхатологический дискурс является, на наш взгляд, депривация ключевых потребностей: духовных, психологических, социальных, реакцией на которую становятся различные варианты копинг-стратегии «бегства-избегания».
И те, и другие находят в эсхатологическом дискурсе и «апокалиптических сектах»:
-
1) рационалистическое обоснование своих внутренних болезненных процессов и конфликтов, подтверждение якобы правильности собственной асоциальности и собственных деструктивных импульсов [11];
-
2) ложную верификацию собственными фантазиями «исключительности и всемогущества»;
-
3) реализацию на практике иных фантазий (в том числе в некоторых случаях связанных с инфантильной сексуальностью и сопряженных с ней извращений);
-
4) фиксацию на «родительской фигуре» (с проекцией на нее опять же собственных фантазий о всемогуществе и исключительности);
-
5) возможность последовать внутреннему влечению к смерти и, в то же время, иллюзорным образом «победить смерть» через представление об избранности членов секты (при этом исполняется и характерная для различных перверсий фантазия «отмщения»).
Очевидно, что в периоды социальных потрясений (которые особенно сильно сказываются на подростках и молодежи) данные эффекты многократно усиливаются, что приводит в резкой интенсификации экхатологического дискурса и повышению массовости «апокалиптических» сект. Впрочем, тотальное доминирование «культа потребления» при игнорировании потребности человеческой личности в трансценденции и духовном развитии также может быть причиной появления массовых деструктивных сект, связанных с идеологией «конца света» (о чем ясно свидетельствует пример «New Age» [1].
Все эти факторы следует учитывать при противодействии радикальному эсхатологическому дискурсу, который теряет свою силу как при повышении социального благополучия населения, так и при содействии созидательному духовно-трансцендентному развитию личности, которое основано на чувстве осмысленной сопричастности, позволяющем преодолеть и ужас, и «сладкий яд влечения к смерти» [3, 11].
Общество
Список литературы Социально-психологическая депривация как триггер развития современной эсхатологии пробуждения
- Бирюкова Ю.А. Особенности структуры феномена «Движение “Нью Эйдж”« // ЕГИ. – 2017, № 1 (15). – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-struktury-fenomenadvizhenie-nyu-eydzh (11.05.2024)
- «Белое Братство» // Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера / Авт.-сост. И. Куликов. 2-е изд. – Белгород: Миссионерский отдел РПЦ, 1997. – 459 с.
- Богачев А.М. Путь к Другому. О некоторых закономерностях практической психологии: монография. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Астерион, 2019. – 221 с.
- Воронцов А.В., Прилуцкий А.М., Богачев А.М. Трагедия в Керчи: опыт социально-психологического анализа предпосылок // Психопедагогика в правоохранительных органах. Т. 24. – 2019, № 2 (77). – С. 138–144.
- Гранин Р.С. Эсхатологические исследования в России XXI в. // Эсхатологические исследования в России XXI в. – 2017. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/eshatologicheskie-issledovaniya-v-rossii-xxi-v (11.05.2024)
- Зорин В.Ю. Пензенские затворники – хроника событий // Религия в XXI веке. Архаика и современность. – М.: Каллиграф, 2012. – С. 288–300.
- Кудряшова Е.А. Особенности религиозного климата в современной России. Секта Виссариона // Исторический путь России: из прошлого в будущее: Материалы международной научной конференции, посвященной 800-летию со дня рождения Великого князя Александра Невского: в 3 т. Санкт-Петербург, 2 апреля 2021 года / Под ред. С.И. Бугашева, А.С. Минина. Т. 2. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. – С. 665–669.
- Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М. Пророчества «Отрока Вячеслава» как эсхатологический дискурс о катастрофах // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии. – 2022, № 11. – С. 80–93.
- Методика для психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями: пособие для врачей и медицинских психологов / Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, Е.Р. Исаева [и др.]. – СПб.: НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2009. – 38 с.
- Петрова Н.Н., Чарная Д.И., Чумаков Е.М. Пограничное расстройство личности: К вопросу о диагнозе // Доктор.ру. – 2022, № 8. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pogranichnoe-rasstroystvo-lichnosti-k-voprosu-o-diagnoze (11.05.2024)
- Психосемиотика деструктивного поведения: от убийства символического к убийству реальному / А.В. Воронцов, А.М. Прилуцкий, А.М. Богачев, Г.И. Теплых // Общество. Среда. Развитие. – 2022, № 1 (62). – С. 86–96.
- Растин М., Растин М. Читая Кляйн / Пер. Регины Саакян. – М.: ИОИ при содействии Ассоциации детского психоанализа, 2020. – 352 с.
- Религиозные, этические и бытовые категории в бессознательной области психической реальности современной российской молодежи: попытка сравнительного анализа / А.М. Богачев, А.О. Блинкова, А.М. Прилуцкий [и др.] // Философия и культура. – 2020, № 8. – С. 53–67.
- Хворостяной А.А. Эсхатологические настроения среди молодежи // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2023, № 100. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/eshatologicheskie-nastroeniya-sredi-molodezhi (01.05.2024).