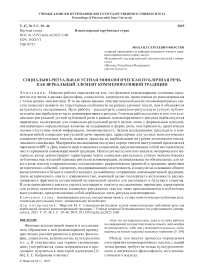Социально-ритуальная устная монологическая публичная речь как вербальный элемент коммеморативной традиции
Автор: Фирстов М.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языки народов зарубежных стран
Статья в выпуске: 3 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Новизна работы определяется тем, что феномен коммеморации, оставаясь предметом изучения в рамках философии, социологии, антропологии, практически не рассматривался с точки зрения лингвистики. В то же время именно лингвистический анализ коммеморативных текстов позволяет выявить их структурные особенности на разных уровнях текста, чем и объясняется актуальность исследования. Цель работы - рассмотреть социально-ритуальную устную публичную речь как вербальную часть коммеморативного ритуала. Гипотеза работы состоит в том, что в социально-ритуальной устной публичной речи в рамках коммеморативного ритуала вербализуются параметры, выделяемые для социально-ритуальной речи в целом: связь с формальным поводом, оказывающим определяющее влияние на содержание и форму речи, повторяемость, практически полное отсутствие новой информации, эмоциональность. Задачи исследования: проследить в ком-меморативной социально-ритуальной речи параметры, характерные для устных монологических социально-ритуальных текстов, выявить средства их вербализации на уровне композиции текста, лексики и синтаксиса. Материалом исследования послужил корпус текстов выступлений председателя парламента ФРГ в День памяти жертв национал-социализма, представляющих собой неотъемлемую часть германской коммеморативной традиции. Используя метод контент-анализа эмпирического материала, автор демонстрирует характерные черты социально-ритуальных устных монологических публичных выступлений в рамках ритуалов коммеморации, останавливаясь на обязательных для такого рода текстов содержательных составляющих: репрезентации принятой в традиции трактовки исторических событий, элементах, поддерживающих сплоченность в социуме на основании общего аксиологического базиса и способствующих дальнейшему сохранению коммеморативной традиции, связи исторического опыта с современностью, имеющей целью подчеркнуть актуальность рассматриваемого фрагмента коллективной исторической памяти для настоящего и будущего социума. В ходе проведенного анализа удалось подтвердить гипотезу исследования: параметры, характерные для устных монологических социально-ритуальных текстов, явно прослеживаются в публичных выступлениях, представляющих собой вербальную часть ритуала коммеморации.
Коммеморация, ритуал, коллективная память, устная монологическая публичная речь, социально-ритуальный текст, эмоциональное воздействие
Короткий адрес: https://sciup.org/147247863
IDR: 147247863 | УДК: 81'25 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1160
Текст научной статьи Социально-ритуальная устная монологическая публичная речь как вербальный элемент коммеморативной традиции
Феномен коллективной памяти и коллективного обращения к ней (коммеморации) преимущественно рассматривается в рамках философии, социологии, антропологии, культурологии и т. д. В лингвистике сам термин «коммемора-ция» употребляется лишь спорадически и продолжает нуждаться в некоторой адаптации [11: 66]. Е. С. Кубрякова отмечает:
«Как это ни парадоксально, даже в лучших работах по современной лингвистике понятие памяти либо вообще не разъясняется, либо оно упоминается вскользь, либо, наконец, не входит в арсенал исходных терминов» [5: 359].
Между тем анализ процесса порождения и восприятия коммеморативных текстов, с нашей точки зрения, требует не только культурологического и антрополого-философского, но и лингвистического подхода.
В предлагаемой работе мы сознательно ограничимся анализом устных монологических публичных текстов, представляющих собой вербальный элемент коммеморативных ритуальных практик. Применительно к такого рода текстам нам трудно согласиться с Е. П. Мурашовой в ее трактовке термина «коммеморация» в контексте лингвистики. Исследователь отмечает, что
«лингвистическая трактовка коммеморации становится возможной и необходимой благодаря тому, что вспоминание, как правило, опосредуется коммуникацией на естественном языке и выступает реакцией на коммуникативный стимул. В большинстве случаев коммуникативным стимулом коммеморации выступает прецедентное имя, обозначающее персоналию, явление или событие прошлого» [11: 67].
С нашей точки зрения, такого рода стимулом в коммуникативной ситуации коммеморативного ритуала выступает отнюдь не слово («прецедентное имя, обозначающее персоналию, явление или событие прошлого» [11: 67]), а сам факт участия в коммеморативном ритуале. Вербальная же часть ритуала в целом носит вторичный и необязательный характер [10: 51].
В целях рассмотрения монологических текстов, представляющих собой вербальную часть коммеморативного ритуала, полезно обратиться к проблеме классификации устных монологических публичных текстов в целом, которую мы рассматривали в ряде предыдущих работ [13], [14], [15]. Полезным и продуктивным нам представляется классифицировать такого рода тексты в зависимости от их базовой коммуникативной функции, определяющей их лингвофилософские параметры.
В рамках подобной классификации мы предлагаем делить такие тексты на те, которые предназначены в первую очередь для передачи новой информации, то есть для формирования, изменения или дополнения картины мира реципиента (иными словами, характеризующиеся внешней направленностью: взгляд адерсанта и адресата направлен на окружающий мир), и те, которые своей целью ставят поддержание статус-кво (сплоченности в социальной группе, приверженности определенным, уже известным адресанту и адресату, представлениям о мире, традициям, ценностям, идеалам, моделям поведения и т. п.). В последнем случае мысленный взор адресата имеет внутреннюю направленность, то есть обращен внутрь социальной группы, к которой принадлежат и адресат, и адресант. Если коммуникативная цель отправителя текста первой группы состоит в том, чтобы за счет новой информации привести картину мира получателя в динамику, то адресант второй группы, напротив, стремится зафиксировать и укрепить уже сложившуюся
(статичную) картину мира реципиента или отдельные ее элементы (в терминологии У. Липпма-на – «стереотипы» [8: 93 и далее]), придать жизни «форму» (по выражению Дж. Кэмпбелла [7: 66]).
Тексты первой группы мы предлагаем условно обозначить как информационные, второй – как социально-ритуальные. Внутри этих двух групп возможна и необходима дальнейшая классификация, которую, с нашей точки зрения, для группы социально-ритуальных текстов имеет смысл построить на основании подхода, сформулированного Э. Дюркгеймом и его последователями применительно к ритуальным действиям. В частности, исследователи выделяют ритуалы перехода, а также кризисные, календарные и коммеморативные ритуалы, причем последние в ряде случаев можно рассматривать как разновидность календарных ритуалов [4].
Коммеморативные ритуалы (как и другие виды ритуалов), обычно (хотя и не всегда) включают в себя вербальную составляющую, то есть тексты, которые и являются объектом предлагаемого исследования.
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ
И КОММЕМОРАТИВНЫЙ РИТУАЛ
В самом широком смысле ритуал представляет собой систему запретов и предписаний, поддерживаемых традицией и создающих эффект хронотопа, то есть зависимости определенных действий от времени и места [6: 104–105]. Само время совершения ритуала Н. Б. Мечковская обозначает как «“точечное”, а не длящееся время» [10: 98]. Ритуал вызывает определенные эмоции, исключая или ограничивая рациональный взгляд на предмет. Таким образом, без необходимости приводить какие бы то ни было рациональные обоснования, ритуал связывает настоящее с прошлым, а личность с коллективом, способствуя укреплению чувства социальной сплоченности (см., например, [11: 66]). Именно поддержание морального единства и солидарности социальной группы – первичная цель ритуала [3: 152]. При этом, как справедливо отмечает А. Ассман, индивид усваивает общенациональную память именно через ритуалы [1: 225], в ходе которых «множество индивидуальных воспоминаний» превращаются «в совместное памятование, чтобы в стилизованной символической форме сделать его доступным для следующих поколений» [2: 260].
Рассматривая подход Э. Дюркгейма к проблеме коллективной памяти, А. Васильев подчеркивает:
«Для поддержания стабильности общества, для того чтобы его члены ощущали солидарность и историческую преемственность существования своей группы, они должны помнить определенные вещи определенным образом» [3: 146].
Именно с этой целью хронотоп ритуала и используется в государственной политике [6: 105], [9: 72, 75]. Для этого необходимо создать у общества соответствующие стереотипы. Когда стереотипы созданы и закреплены в сознании, «наше внимание привлекают те факты, которые систему поддерживают, и рассеивают те, что ей противоречат» [8: 135]. Таким образом, у социальной группы складывается некое общепринятое для данного коллектива нормативное восприятие событий прошлого как продукт социального консенсуса.
Коммеморативные ритуалы существуют для того, чтобы укрепить и освежить коллективную память об историческом событии. Исследователи подчеркивают, что такого рода ритуалы жизненно необходимы для сохранения исторической памяти, поскольку без них «не так заметны памятники», «забываются траурные даты» и т. п. [6: 223]. При этом коммеморативные ритуальные практики, бытующие в обществе, свидетельствуют не только о том, как общество представляет себе свое прошлое, но и о том, каких принципов и ценностей оно придерживается в настоящем и какие цели ставит на будущее. «Коммеморация не сводится к вспоминанию прошлого, но погружает прошлое в контекст настоящего времени и привлекает его для обслуживания текущей идеологии» [11: 68]. Применительно к рассматриваемому нами коммеморативному ритуалу эта цель была поставлена эксплицитно: «Wir wollen Lehren ziehen, die auch künf-tigen Generationen Orientierung sind» (Herzog, 19.01.1996)1. В основе любого ритуала лежит сложившаяся традиция. В идеале ритуал неизменен, он строится на повторяемости как в рамках конкретного ритуального акта, так и в рамках ритуальной традиции в целом. Этот принцип повторяемости характеризует и вербальную часть ритуала, представленную социально-ритуальными текстами. В реальности образ прошлого, отраженный в ритуале, и сам ритуал могут меняться с трансформацией самого общества: «История в том виде, как ее рассказывают <…> позволяет одновременно узнать и то, что общество думает о себе, и то, как с течением времени изменяется его положение» [12: 9].
РИТУАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ:
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ НАЦИЗМА
Наше исследование посвящено ритуальной традиции, сложившейся в связи с Днем памяти жертв нацизма 27 января. Начало тради- ции было положено почти три десятилетия назад. Инициатива исходила от тогдашнего председателя Центрального совета евреев Германии Игнаца Бубиса и получила поддержку депутатов Бундестага. По просьбе депутатов Федеральный президент ФРГ Роман Херцог в начале 1996 года объявил 27 января Днем памяти жертв национал-социализма («Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus»). Федеральный президент сформулировал цели, связанные с этой традицией, следующим образом:
«Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künf-tige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust aus-drücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken» (Herzog, 12.01.1996).
Председатель Германского Бундестага Рита Зюсмут так описала смысл предложенной инициативы:
«Je größer der zeitliche Abstand, je kleiner der Kreis der Zeitzeugen, desto nachhaltiger stellt sich die Frage: Wie wird die Erinnerung wachgehalten? Gedenktage allein sind keine Gewähr gegen das Vergessen. Ob sie das bewirken, was wir von ihnen erwarten, hängt davon ab, inwieweit es uns selbst ein wichtiges Anliegen ist und dieses auch nachfolgenden Generationen nahegebracht werden kann» (Süssmuth, 23.01.1996).
Здесь Роман Херцог и Рита Зюсмут останавливаются на чрезвычайно важной для коллективной исторической памяти проблеме: как сохранить в обществе память об историческом событии, живых свидетелей которого не осталось или почти не осталось, когда, по меткому выражению историка Р. Козеллика, на место памяти приходит история [1: 222]? Какие инструменты могут быть использованы для того, чтобы привлечь внимание новых поколений к событиям, которые не воспринимаются ими как часть собственной жизни или жизни знакомых им лично людей, в частности членов семьи? Не случайно начало описываемой традиции было положено именно в 1990-е годы, когда живая память о событиях Второй мировой войны и трагедии Холокоста начала становиться историей.
С 1996 года в Германском парламенте ежегодно проводятся траурные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения лагеря Освенцим войсками 1-го Украинского фронта РККА 27 января 1945 года. В 2005 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста («International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust»). За прошед- шие десятилетия в Германии сложилась определенная ритуальная практика («ein gewisser formalisierter Ablauf» [16], см. также [2: 260]). После выступления председателя Бундестага слово предоставляется Федеральному президенту ФРГ или приглашенному гостю. В разные годы такими гостями были политики, ученые, деятели культуры из разных стран, многие из которых пережили Вторую мировую войну и Холокост. В 2014 году, в семидесятую годовщину снятия блокады Ленинграда, с речью перед депутатами Бундестага выступил российский писатель, автор «Блокадной книги» Даниил Гранин.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БУНДЕСТАГА КАК НЕИЗМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
РИТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
С точки зрения ритуальной традиции особый интерес для анализа представляет предваряющая выступление гостя речь Председателя Бундестага, которую можно рассматривать как неизменную, инвариантную часть ритуала. В 1996– 1998 годах в этом качестве выступала Рита Зюсмут, в 1999–2005 годах – Вольфганг Тирзе, с 2006 по 2017 год эту речь произносил Норберт Ламмерт, с 2018 по 2021 год – Вольфганг Шойбле, с 2022 года – Бербель Бас. Подчеркнем, что, как и в любом ритуальном выступлении, основную роль в данном случае играет не личность оратора, а функция, которую он выполняет в ритуальной традиции. Сама речь, произносимая по формальному поводу, характеризуется значительным (если не определяющим) влиянием стандарта, повторяемостью и предсказуемостью, то есть соответствует ожиданиям слушателей [2: 260]. Состав участников ритуального действия варьируется в минимальной степени, по этой причине стандартным остается и обращение, которым Председатель Бундестага начинает свое выступление:
«Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Frau Bundes-kanzlerin, Frau Bundesratspräsidentin, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Exzellenzen, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen!» (Lammert, 27.01.2017; ср. также: Schäuble, 31.01.2018; Bas, 27.01.2023).
Неизменным элементом в выступлении Председателя Бундестага будет блок, посвященный перечислению жертв нацистской диктатуры. При этом список пострадавших от речи к речи (и от оратора к оратору) изменяется в минимальной степени:
«Wir gedenken <…> aller Opfer der nationalsozialisti-schen Gewaltherrschaft. Wir gedenken der Juden, der Sinti und Roma, der Kranken, der Menschen mit Behinderungen, der aus politischen oder religiösen Motiven Verfolgten, der
Homosexuellen und all derer, die Opfer des NS-Regimes und des von Deutschland ausgegangenen Vernichtungskrie-ges wurden» (Lammert, 27.01.2011; ср. также: Lammert, 27.01.2017; Schäuble, 31.01.2018; Schäuble, 27.01.2021; Bas, 27.01.2022; Bas, 27.01.2023).
Отметим, что в 2015, 2017, 2018, 2023 и 2024 годах в списке жертв отдельно упоминаются свидетели Иеговы, подвергавшиеся преследованиям в гитлеровской Германии за пацифизм и отказ признавать законность нацистского режима. В 2007, 2013, 2017, 2019, 2023 и 2024 годах особо упомянуты жертвы нацистской программы эвтаназии. Номинативный стиль подобного перечисления способствует нарастанию напряжения у слушателей.
Часто оратор упоминает и о борцах антифашистского сопротивления:
«Wir gedenken auch derjenigen, die mit dem Leben be-zahlten, weil sie Widerstand leisteten oder verfolgten Men-schen Schutz und Hilfe gewährten» (Lammert, 27.01.2009; ср. также: Lammert, 27.01.2010, Lammert, 27.01.2014; Lammert, 27.01.2015).
Обычно также повторяется блок, посвященный описанию страданий жертв нацистской диктатуры:
«Wir gedenken <…> all jener, die in Auschwitz, Treblinka, Belzec und in den anderen Vernichtungslagern ermor-det wurden, die erschossen, vergast, erschlagen, verbrannt, durch Zwangsarbeit vernichtet wurden, die verhungert sind» (Lammert, 27.01.2014; cр. также: Lammert, 27.01.2017; Lammert, 27.01.2015; Bas, 27.01.2022).
Здесь нагнетание напряжения достигается уже за счет перечисления глагольных конструкций.
В центре внимания в ходе траурных мероприятий находятся жертвы Холокоста. В то же время еще в 1996 году, закладывая начало коммеморативной традиции, Федеральный президент Роман Херцог подчеркнул: «“Opfer des Holocaust” wäre ein zu enger Begriff gewesen, weil die nationalso-zialistische Rassenpolitik mehr Menschen betroffen hat als die Juden» (Herzog, 19.01.1996). Соответственно, в отдельные годы траурные мероприятия посвящались другим группам жертв нацизма. В частности, в 2011 году это были представители цыганских народов синти и рома, в 2014 году – ленинградцы, погибшие и пострадавшие во время блокады, в 2018 году – жертвы программы эвтаназии. В своей речи выступающий нередко проводит параллель между этими группами жертв и жертвами Холокоста:
«Zwischen “Euthanasie” und dem Völkermord an den europäischen Juden bestand ein enger Zusammenhang. Als “Probelauf zum Holocaust” gilt das Töten durch Gas, das zuerst bei den “Euthanasie”-Opfern praktiziert und damit zum Muster für den späteren Massenmord in den NS-Ver- nichtungslagern wurde» (Schäuble, 31.01.2018, ср. также: Lammert, 27.01.2014. Lammert, 27.01.2011).
Практически в каждом выступлении председателя Бундестага подчеркивается значимость сохранения памяти о преступлениях нацизма («Je weiter die Zeit des Nationalsozialismus zurückliegt, desto wichtiger wird die Erinnerung» (Schäuble, 31.01.2018)), в особенности среди представителей молодого поколения:
«Dass gerade junge Menschen sich mit dem Holocaust auseinandersetzen, ist umso wichtiger, als die Zahl der Zeitzeugen immer kleiner wird. So ist es zunehmend die Aufgabe der Nachgeborenen, die Erinnerung wachzuhalten und auch das eindrucksvolle Werk der Versöhnung zu ihrem eigenen Anliegen zu machen» (Lammert, 27.01.2011).
Выступающий также отмечает, что нынешнее поколение немцев не виновато в преступлениях нацизма, однако несет ответственность за сохранение памяти о них и за то, чтобы они никогда больше не повторились:
«Wir gedenken nicht als persönlich Schuldige. Aber aus der Schuld, die Deutsche in den zwölf Jahren der NS-Diktatur auf sich geladen haben, wächst uns nachfolgenden Generationen eine besondere Verantwortung zu» (Schäuble, 31.01.2018; ср. также: Lammert, 27.01.2011; Herzog, 19.01.1996).
На философских основах такого подхода к вопросу о вине и ответственности, восходящих к Карлу Ясперсу и его ученице Ханне Арендт, Председатель Бундестага Норберт Ламмерт подробно остановился в своем выступлении 27 января 2006 года. Ясперс непосредственно после окончания войны подчеркивал прямую связь между возможностью выстроить в Германии демократическое общество и открытым обсуждением вопроса вины за преступления нацизма. Сейчас, через несколько поколений, вопрос вины и ответственности германского общества, разумеется, ставится иначе, чем в сороковые и пятидесятые годы, однако остается актуальным для сохранения и развития демократии в Германии:
«Heute müssen wir parlamentarische Demokratie in Deutschland nicht mehr aufbauen, aber wir wollen sie erhalten und fortentwickeln und vor allem schützen <…> Dass sich Auschwitz nicht wiederholt, ist in unserer aller Verantwortung. <…> Deswegen wird diese Schuld auch weiterhin unser Denken, unsere Sprache und unser Handeln bestimmen» (Lammert, 27.01.2006).
Часто Председатель Бундестага подчеркивает важность работы с молодежью (в том числе из других стран) для сохранения исторической памяти, когда живых свидетелей Второй мировой войны и нацистской диктатуры уже не останется:
«Vergangenheitsbearbeitung und Zukunftsgestaltung sind gerade mit der Jugend zu leisten» (Süssmuth, 27.01.1997; ср. также: Süssmuth, 27.01.1998; Lammert, 27.01.2006).
Наконец, как правило, в выступлении Председателя Бундестага присутствует фрагмент, посвященный сегодняшним проблемам в Германии. Так, в 2021 году Вольфганг Шойбле подчеркнул, что траурные мероприятия проводятся в особых условиях пандемии коронавируса:
«Wir gedenken alljährlich am 27. Januar aller dieser Opfer des Nationalsozialismus – in diesem Jahr unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Viele Gäste, die wir gern bei uns gehabt hätten, – unter ihnen Überlebende der Konzentrationslager –, können die Gedenkstunde leider nur aus der Ferne verfolgen. Sie alle sollen wissen: Wir sind in Gedanken auch bei Ihnen, gerade an diesem besonderen Tag» (Schäuble, 27.01.2021).
В том же выступлении он остановился на случаях проявления антисемитизма в Германии:
«Auch bei uns zeigen sich Antisemitismus und Fremden-feindlichkeit wieder offen, hemmungslos – und gewaltbereit. Jüdische Einrichtungen müssen von der Polizei geschützt werden. Juden verstecken ihre Kippa und verschweigen ihre Identität. In Halle entkam die jüdische Gemeinde nur durch einen Zufall einem mörderischen Anschlag. Nach Jahrzehnten der Zuwanderung denken deutsche Juden über Auswanderung nach» (Schäuble, 27.01.2021, см. также: Bas, 27.01.2022; Bas, 27.01.2023; Bas, 27.01.2024).
Проблемы проявления ксенофобии в Германии затрагивает Ноберт Ламмерт:
«Die von Fremdenhass getriebenen Morde an Bürgern türkischer und griechischer Herkunft, von rassistischen Pa-rolen begleitete Proteste gegen Flüchtlingsheime, jede anti-semitische Straftat – jede! – fordern unsere rechtsstaatliche, politische und zivilgesellschaftliche Gegenwehr als Demo-kraten heraus» (Lammert, 27.01.2014).
О ксенофобии говорит и Вольфганг Шойбле:
«Es muss uns aber beunruhigen, wenn Angriffe auf Zu-wanderer, auf Flüchtlinge und deren Unterkünfte stillschwei-gend oder gar laut gebilligt werden» (Schäuble, 31.01.2018).
В 2024 году Бербель Бас упомянула об атаке Хамас на Израиль в октябре 2023 года:
«Judenhass ist kein Problem nur der Vergangenheit. Antisemitismus ist ein Problem der Gegenwart. Das zeigt sich insbesondere in erschreckender Weise seit dem 7. Oktober, seit dem barbarischen Hamas-Terrorangriff auf Israel» (Bas, 31.01.2024).
Таким образом, в ходе коммеморативного ритуала подчеркивается связь с современностью (ср. [11: 68]) и важность сохранения памяти об исторических событиях, которым посвящен ритуал.
ВЫВОДЫ
Подводя итог, можно выделить некоторые обязательные элементы, входящие в состав вербальной части коммеморативной ритуальной тради- ции, сложившейся в связи с Днем памяти жертв нацистской диктатуры:
-
1. Обращение к историческим событиям, которым посвящен ритуал (в частности, перечисление жертв нацистского режима, описание страданий жертв).
-
2. Вопрос о вине за совершенные преступления и ответственности за сохранение исторической памяти.
-
3. Подчеркивание важности работы с молодежью с целью сохранения исторической памяти в будущем.
-
4. Связь с текущим моментом и проблемами в германском обществе, делающими вопрос сохранения исторической памяти не менее важным и актуальным, чем прежде.
Таким образом, на примере описанной коммеморативной традиции можно наблюдать признаки, характерные для коммеморативных ритуалов (вербализованные элементы ретроспективы с одновременным погружением прошлого в контекст настоящего), а также параметры, характерные для устных монологических публичных выступлений с доминирующей социально-ритуальной функцией в целом: жесткую связь с формальным поводом, следование устоявшемуся стандарту (повторяемость), безальтернативность, основанную на разделяемой адресантом и реципиентами единой системе ценностей (аксиологичность), внутреннюю направленность и эмоциональность, подкрепляемую широким использованием эстетических средств.