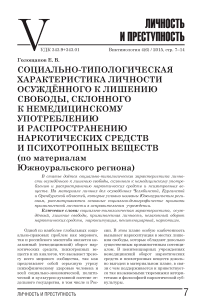Социально-типологическая характеристика личности осуждённого к лишению свободы, склонного к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ (по материалам Южно-Уральского региона)
Автор: Голощапов Е.В.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Личность и преступность
Статья в выпуске: 4 (6), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье даётся социально-типологическая характеристика личности осуждённого к лишению свободы, склонного к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ. На материале личных дел осуждённых Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, которые условно названы Южноуральским регионом, рассматриваются основные социально-демографические признаки криминогенной личности в исправительном учреждении.
Социально-типологическая характеристика, осуждённый, лишение свободы, криминогенная личность, незаконный оборот наркотических средств, наркоситуация, пенитенциарный, наркотизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14118563
IDR: 14118563 | УДК: 343.9+343.01
Текст научной статьи Социально-типологическая характеристика личности осуждённого к лишению свободы, склонного к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ (по материалам Южно-Уральского региона)
Одной из наиболее глобальных социально-правовых проблем как мирового, так и российского масштаба является незаконный (немедицинский) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, что вызывает тревогу всего мирового сообщества, так как представляет собой серьезную угрозу психофизическому здоровью человека и всей социально-экономической, политической и культурно-духовной системе отдельного государства, в том числе и Рос- сии. В этом плане особую озабоченность вызывает наркоситуация в местах лишения свободы, которые обладают довольно существенным криминогенным потенциалом. В пенитенциарных учреждениях немедицинский оборот наркотических средств и психотропных веществ довольно выгоден в материальном плане, в связи с чем поддерживается и приветствуется так называемыми тюремными авторитетами и философией наркотической субкультуры.
Необходимо отметить, что в местах лишения свободы по сравнению с началом XXI века значительно увеличилась доля осуждённых, которым судом определено наказание в виде лишения свободы по ст. 228–234 УК РФ: 2001 г. – 68634 человека, 2014 г. – 127161 человек [14]. Естественно, что подобный контингент в определённой степени будет способствовать вовлечению наиболее слабых в моральном плане осуждённых в немедицинское употребление и распространение наркотиков и, как следствие, – осложнению наркоситуации с её криминогенным потенциалом и криминальной направленностью. В то же время личность, приобщившаяся к противоправному обороту наркотических средств и психотропных веществ, после отбытия срока наказания будет способствовать развитию в России наркотизма и наркомании.
Противодействие наркотизму и наркомании, а равно ослабление криминогенного потенциала наркоситуации в местах лишения свободы будет эффективным лишь в том случае, если сконцентрировать внимание на специфических личностных свойствах (качествах) тех осуждённых, что склонны или предрасположены к пенитенциарному рецидивному противоправному деянию как уголовного, так и дисциплинарного характера в сфере немедицинского употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ.
В настоящей статье мы рассмотрим социально-типологические (социальнодемографические) черты личности осуждённого к лишению свободы Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, которые условно названы Южноуральским регионом по своему географическому признаку, через территорию которых в северную и европейскую часть России проходит наркотрафик из государств, традиционно считающихся производителями наркотических средств (Афганистан, Таджикистан и др.). Это, в свою очередь, способствует осложнению наркоситуации как на уровне региона, так и на уровне дислоцирующихся на его пространстве исправительных учреждений, в которых наркоситуация хотя и управляемая, но довольно сложная, о чём свидетельствуют статистические данные. Для исследования взяты материалы 296 личных дел осуждённых, склонных к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ.
В данном плане прежде всего необходимо уделить внимание понятийной сущности и соотношению номинантов человек, индивид, личность, которые рассматриваются также в таких науках, как философия, социология, психология (в том числе и юридическая, и пенитенциарная), педагогика (в том числе пенитенциарная), биология и др., в ракурсе изолированного, режимно организованного пенитенциарного мини-социума.
Понятие человек отражает его биосоциальную природу, так как служит обозначением живого существа как субъекта исторического процесса, развития материального и духовного мира, обладающего даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Лексема индивид (с лат. – «неделимый») и его синоним индивидуум служит обозначением представителя человеческого рода, носителя психофизиологических качеств. Как отмечает О. Н. Стрельник, в названном понятии имеется в виду не индивидуальные качества отдельного человека, а общее с другими людьми свойство: представитель человека как вида. Индивид становится личностью в процессе социализации, через общение с другими людьми и усвоения морально-нравственных качеств отдельного социума. Личность толкуется как человек или лицо (индивид), являющееся носителем социальных функций отдельного общества [8. С. 214–217; 6. С. 879, 246, 329, 330; 10. С.183, 410–411].
Следовательно, личность осуждённого в местах лишения свободы следует рассматривать как интегральное качество совершившего преступные действия человека, представляющие взаимосвязанный комплекс социально-демографических, психологических и иных признаков, которые прямо или косвенно обусловливают его преступное поведение (в нашем случае – преступления в отношении оборота наркотических средств и психотропных веществ) и характеризуют общественную опасность осуждённого [3].
С одной стороны, перед нами пенитенциарная личность, которая за совершённое преступление отбывает уголов- ное наказание (кару), то есть своего рода – личность преступника, или криминальная личность, которая является одной из центральных исследовательских проблем в криминологии, а равно в криминопенологии (работы Г. А. Аванесова, Ю. М. Антоняна, В. Н. Бурлакова, А. Га-биани, А. И. Долговой, З. Зарипова, А. В. Шеслера и др.). С другой – личность, которая в силу индивидуальных черт характера антиобщественной направленности и негативных мотивационных потребностей (в частности, склонность к употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ) потенциально способна на противоправные деяния и нарушение режима содержания в исправительном учреждении, где отбывает назначенный судом срок исполнения наказания.
Необходимо обратить внимание на то, что традиционный подход к определению понятийной сущности лексемы личность , как, в частности, отмечают В. Н. Бурлаков, З. Зарипов, П. В. Андри-шин и др., отражается в терминологических словосочетаниях личность преступника и криминологическая личность , которые применимы к совершившему уголовно наказуемое деяние субъекту только в период применения к нему уголовно-правовых мер. Однако указанные авторы (и с этим стоит согласиться) подчёркивают, что совершивший преступление человек существовал до момента совершения преступления и продолжает существовать после исполнения уголовного наказания. Следовательно, понятие криминогенная личность , по мнению данных учёных, представляет собой экспликацию понятия личность преступника и отражает характеристику субъекта, который в силу совокупности своих субъективных свойств и качеств предрасположен к совершению преступления и его повторению. При этом отмечается, что криминогенность – приобретённое в процессе взаимодействия негативной микросреды с индивидуальными особенностями человека свойство [1. С.4; 4. С. 40; 2. С. 21–24]. Так, приобщение человека в местах лишения свободы к употреблению наркотиков может в определённой степени привести к формированию криминальной активности личности в области их незаконного распространения, что являет собой уголовно наказуемое деяние.
Следовательно, под терминологическим словосочетанием личность осужденного к лишению свободы, склонного к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ следует понимать такую преступную личность осужденного к лишению свободы, которая в силу общественно опасной криминогенной деформации правосознания, в частности правового нигилизма, предрасположена к совершению противоправных деяний в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Другими словами, в отношении исследуемой нами категории осуждённых, декриминализация которых практически не состоялась, в результате чего личность вновь способна нарушить как уголовный закон, так и режимные требования того или иного исправительного учреждения, вполне обоснованно можно применить терминологическое словосочетание криминогенная личность [4. С. 40; 2. С. 21].
В то же время следует иметь в виду, что криминогенная личность осужденного, склонного к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, с точки зрения диалектической логики проявляется в двух ипостасях: с одной стороны, перед нами субъект, предрасположенный в силу своей личностной структуры к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; с другой – объект, на который может быть направлено противоправное деяние, то есть непосредственно тот, кто склонен к наркопотреблению. В некоторых случаях, как показывает практика, потребители наркотических средств и психотропных веществ по вполне понятным причинам являются одновременно и их распространителями.
Социально-типологическая, или социально-демографическая характеристика личности, которая рассматривается большинством криминологов (А. И. Долгова, С. М. Иншаков, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов и др.), предполагает определение таких типичных признаков преступной личности, как пол, возраст, семейное положение, общеобразовательный уровень и степень профессиональной подготовки, род занятий, место жительства, материальные и жилищные условия. Н. Ф. Кузнецова и Г. М. Миньковский в данном плане отмечают, что указанные признаки сами по себе как свойства личности не являются криминогенными, то есть не несут негативной социальной нагрузки и не характеризуют лицо как преступника, но в совокупности с другими признаками выявляют определенные зависимости, характеризующие личность преступника [5. С. 102]. В данном ракурсе можно определить криминальную активность осужденных описываемой нами группы, а также дифференцированно подойти к предупредительной антинаркотической деятельности в местах лишения свободы.
Социально-типологическую, или социально-демографическую характеристику личности осужденного к лишению свободы, склонного к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, следует начать с таких демографических показателей, как пол и возраст, которые позволяют определить их криминальную активность, мотивационную направленность и потребности.
Среди описываемой нами категории осужденных преобладают прежде всего мужчины. В исправительных учреждениях Южноуральского региона в настоящее время 4 колонии общего режима, которые предназначены для содержания осуждённых женщин – УФСИН по Курганской области (ИК-4, ИК-7) и ГУФСИН по Челябинской области (ИК-4, ИК-5). Следует отметить, что при Челябинской ИК-5 функционирует участок колонии-поселения и имеется Дом ребёнка на 100 детей, а также уникальное родильное отделение, которое обслуживает Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
Криминальная активность женщин имеет тенденцию к увеличению. На это, в частности, указывают исследования О. С. Кирсановой, Т. А. Смолиной, Д. В. Синькова, Ю. М. Антоняна и др. Статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний свидетельствуют, что если в 2001 году за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, отбывали наказания в местах лишения свободы 13482 женщины, то уже в 2014 году количественный состав женщин в исправительных учреждениях равен 17016 [14]. Налицо серьёзная положительная динамика.
В силу своих индивидуальных психолого-биологических особенностей женщины быстрее мужчин становятся нар-козависимыми и труднее поддаются в данном плане лечению. Около 40% названного спецконтингента, по нашим данным, склонны к немедицинскому употреблению наркотиков, что, естественно, является одной из причин пенитенциарного рецидива в отношении их оборота. В структуре женской преступности, как отмечают А. В Шеслер и Т. А. Смолина, превалирует наряду с кражами – 12,7% и незаконный оборот наркотических и психотропных веществ – 6,5% [12. С. 22].
В Южноуральском регионе отбывают наказание более 60% осужденных, склонных к немедицинскому употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Большинство из данной категории осужденных – мужчины и около 5% женщины.
Мы считаем целесообразным среди лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и склонных к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, выделить следующие возрастные группы: 1) от 14 до 17 лет включительно; 2) от 18 до 25 лет включительно; 3) от 26 до 35 включительно; 4) от 36 до 45 включительно; 5) от 46 и старше.
Осужденные первой возрастной группы (14–17 лет) являются несовершеннолетними и согласно п. 9 ст. 74 УИК РФ отбывают наказание в воспитательных колониях.
Следует отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция к сокращению числа несовершеннолетних заключённых, что является своего рода отражением общей демографической обстановки в стране. И некоторые из воспитательных колоний перепрофилированы в женские исправительные учреждения. Так, Юргамышская воспитательная колония (Курганская область) и Челябинская воспитательная колония ныне являются исправительными учреждениями общего режима, в которых отбывают наказание осуждённые к лишению свободы женщины.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в воспитательных колониях, как показывает практика, не ха- рактерны. Следует отметить, что, по данным нашего исследования, из общего количества лиц, склонных к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Южноуральского региона, на воспитательные колонии приходится 0,4 % лиц данной категории.
Осужденные остальных возрастных категорий отбывают наказание в колониях-поселениях, исправительных колониях общего, строгого и особого видов режима, а также в тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях, исправительных колониях особого режима – для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. В результате реформы уголовно-исполнительной системы количественный состав осужденных к лишению свободы имеет тенденцию к сокращению. Однако увеличивается количество лиц, осужденных к лишению свободы за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Например, только в Южноуральском регионе в течение пяти лет (2004–2009 гг.) количество осуждённых за наркопреступления увеличилось на 659 человек.
Необходимо отметить, что, по данным нашего исследования, в Южноуральском регионе 37,3% осужденных к лишению свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, склонны к употреблению и распространению наркотиков в исправительных учреждениях, что, естественно, оказывает негативное влияния на наркоситуацию в пенитенциарных учреждениях. Особенно подвержены такому влиянию осужденные в возрасте от 18 до 25 лет в силу отсутствия необходимого жизненного опыта в сфере преодоления возникающих трудностей и низкого уровня правосознания. Таковых в исследуемом нами регионе насчитывается 39,8%. Далее мы имеем следующие результаты: возрастная группа от 26 до 35 лет составляет 33,9%; возрастная группа от 36 до 45 лет – 23,4%; возрастная группа от 46 лет и старше – 2,7%.
Немаловажным является и образовательный уровень осужденных, склонных к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, в местах лишения свободы. Образование, как, в частности, отмечают Н. Ф. Кузнецова и Г. М. Минь-ковский, связано с характеристикой культуры личности, её социального статуса, круга контактов, жизненных планов и возможности их реализации [5. С. 104]. В. И. Селиверстов подчёркивает, что образование самым прямым образом связано с пенитенциарной преступностью: «Высокий образовательный уровень проявляется как антикриминоген-ный фактор» [9. С. 105].
В отношении рассматриваемой нами категории осужденных к лишению свободы Южноуральского региона можно сказать, что в исправительных учреждениях преобладает группа лиц, имеющих средний образовательный уровень, – 32,5%, осужденных с неполным средним образованием – 30,7%, со среднеспециальным образованием – 24,4%, с неоконченным высшим и высшим образованием – 12,4%.
В воспитательных колониях, где содержатся осужденные возрастной группы от 14 до 17 лет включительно, наблюдается довольно низкий образовательный уровень: 21,1% несовершеннолетних на период осуждения имеет только начальное образование, 2,2% вообще не имели никакого образования.
В юридической литературе (В. И. Селиверстов, В. Д. Иванов, Л. М. Прозумен-тов, А. В. Шеслер, Е. В. Патрушев и др.) сказано, что семья – один из важнейших социальных институтов, где формируются морально-нравственные и правовые основы личности. Она может рассматриваться как криминогенный, так и анти-криминогенный фактор – влияние семьи на осужденного к лишению свободы сохраняется в течение всего периода отбывания срока наказания.
На основе рассмотренных нами личных дел осужденных Южноуральского региона, отбывающих наказание в местах лишения свободы и склонных к немедицинскому употреблению наркотических средств и психотропных веществ, можно сказать, что доля лиц, которые состоят в браке, невелика – 25,3%, остальные осужденные данной категории либо до осуждения в браке не состояли вообще, либо были разведены еще до осуждения. Также необходимо отметить, что во время отбывания наказания в местах лишения свободы распадается каждый 5-й брак из 50. В связи с этим немаловажное значение в уголовно-исполнительной политике придается укреплению социальнополезных связей – в частности, приветствуется заключение браков осужденных на территории исправительного учреждений в целях их исправления и предупреждения в дальнейшем пенитенциарного рецидива преступлений.
Основная масса осужденных, склонных к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Южноуральского региона, является трудоспособной. Однако до осуждения к лишению свободы 53,4% лиц данной категории нигде не работали и не учились. По роду занятий названные осуждённые представлены следующим образом: 12,4% составили служащие и лица, занятые в сфере торговли и обслуживания, рабочими являлись 27,2%, учащимися школ и профтехучилищ – 1,8%, студентами – 5,2%.
Следовательно, наиболее криминогенными являются лица, которые не были заняты общественно полезным трудом и нигде не учились, так как до осуждения они вели паразитический образ жизни, что, естественно, в немалой степени способствовало противоправным действиям в отношении употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. Это, в частности, находит своё подтверждение в работах таких ученых, как С. Г. Ольков, В. В. Жалы-бин и др., акцентирующих внимание на том, что незанятость трудом или учебой находится в прямой зависимости от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [7. С. 88].
Одним из основных средств исправления осужденного к лишению свободы и предотвращения пенитенциарных наркопреступлений является общественнополезный труд (ст. 9 УИК РФ). Согласно ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений, с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности осужденного, а также исходя из наличия рабочих мест. К сожалению, на сегодня не все осужденные могут быть обеспечены работой, что в определенной степени негативно влияет на состояние наркоситуации в местах лишения свободы. Наиболее благоприятная обстановка в данном плане среди субъектов Южноуральского региона наблюдается в исправительных учреждениях Челябинской области, где, согласно официальной статистике, уже в 2004 году вообще не было осужденных, не занятых трудом.
Среди осужденных, склонных к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, отбывающих наказание в местах лишения свободы, основную массу составляют жители городов, районных центров и поселков городского типа – 92,8%. Осужденные данной категории в 83% случаев, согласно материалам изученных нами личных дел, имели постоянную регистрацию по месту жительства до осуждения, что, как отмечают А. В. Шеслер и В. В. Жалыбин, создает возможность приобретения, хранения и употребления наркотических средств и психотропных веществ [11. С. 37].
Национальная принадлежность осужденных к лишению свободы Южноуральского региона, склонных к немедицинскому употреблению наркотических средств и психотропных веществ, выглядит следующим образом: 77,4% – русские, 11,9 – цыгане, 10,7% – представители иных национальностей (татары, таджики, азербайджанцы, казахи и т. д.). Эти данные в целом отражают национальную структуру Южноуральского региона и мест лишения свободы, в частности, по отношению к употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ.
Таким образом, социально-типологическая (социально-демографическая) характеристика осужденных в местах лишения свободы Южноуральского региона, склонных к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, выглядит следующим образом: большая часть названной категории осужденных – это представители мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие средний образовательный уровень, до осуждения не состоящие в браке, не работающие, являющиеся городскими жителями, русские.
Список литературы Социально-типологическая характеристика личности осуждённого к лишению свободы, склонного к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ (по материалам Южно-Уральского региона)
- Андришин, П. В. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук/П. В. Андришин. -СПб., 2004
- Бурлаков, В. Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: проблемы моделирования/В.Н. Бурлаков. -СПб., 1998
- Бурукина, Е.А. Социально-психологический портрет личности осужденного/Е. А. Бурукина. -Электронный ресурс: htt://www.masters/donntu.edu/ua/2009/kita/zenkevich/library/article02.htm
- Зарипов, З. Некоторые подходы к изучению личности современного преступника -/З. Зарипов//Ведомости УИС. -2010. -№ 3. -С. 39-43
- Криминология: учебник; под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. -М., 1994
- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. -М., 2007
- Ольков, С. Г. Юридический анализ (исследовательская юриспруденция) Т. 2/С. Г. Ольков. -Тюмень, 2003
- Стрельник, О. В. Философия: краткий курс лекций/О. В. Стрельник. -М., 2002
- Уголовно-исполнительное право России: учебник; под ред. В. И. Селиверстова. -М., 2003
- Философский словарь/под ред. И. Т. Фролова. -М., 1980
- Шеслер, А. В. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств/А. В. Шеслер, В. В. Жалыбин. -Тюмень, 2006
- Шеслер, А. В. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности: учеб. пособие/А. В. Шеслер, Т. А. Смолина. -Тюмень, 2008
- Статистические данные оперативных служб ГУФСИН России по Челябинской области, УФСИН России по Курганской области и УФСИН России по Оренбургской области
- Статистические данные ФСИН России. -Электронный ресурс: htt:fsin.su/structure/inspector/atatistika