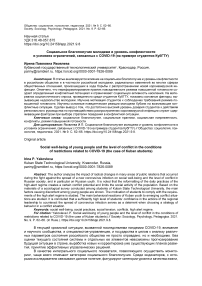Социальное благополучие молодежи и уровень конфликтности в условиях ограничений, связанных с COVID-19 (на примере студентов КубГТУ)
Автор: Яковлева Ирина Павловна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 9, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние на социальное благополучие и уровень конфликтности в российском обществе и в частности российской молодежи, радикальных изменений во многих сферах общественных отношений, произошедших в ходе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Отмечено, что переформатирование практик повседневности режима повышенной готовности создает определенный конфликтный потенциал и ограничивает социальную активность населения. На материалах социологического опроса, проведенного среди студентов КубГТУ, показаны основные факторы, вызывающие недовольство молодежи. Изучена мотивация студентов к соблюдению требований режима повышенной готовности. Изучены основные поведенческие реакции молодежи Кубани на возникающие конфликтные ситуации. Сделан вывод о том, что достаточно высокий уровень доверия студентов к действиям регионального руководства по противодействию распространению коронавирусной инфекции служит сдерживающим фактором при выборе стратегии поведения в конфликтной ситуации.
Социальное благополучие, социальные практики, социальная напряженность, конфликты, режим повышенной готовности
Короткий адрес: https://sciup.org/149137165
IDR: 149137165 | УДК: 316.48-057.875 | DOI: 10.24158/spp.2021.9.8
Текст научной статьи Социальное благополучие молодежи и уровень конфликтности в условиях ограничений, связанных с COVID-19 (на примере студентов КубГТУ)
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия, ,
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia, ,
В текущей кризисной ситуации, вызванной последствиями пандемии COVID-19, внимание и научного сообщества, и специалистов-управленцев, и государства в целом к анализу различных параметров состояния российского общества не просто оправдано, но и необходимо. Без оценки текущего состояния системы и отдельных ее элементов невозможны прогнозирование будущей ситуации в стране, выработка новых и корректировка уже существующих планов развития, принятие эффективных управленческих решений.
В качестве интегрального социального показателя, позволяющего осуществить мониторинг, чаще всего отмечают категорию социального благополучия. Среди индикаторов, с которыми исследователи связывают данное понятие, фигурируют категории уровня и качества жизни, удовлетворенности своей жизнью (М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова), социальной безопасности (А.А. Власова, Е.Ю. Костина), социальной активности (Р.М. Шамионов). Практика зарубежных прикладных исследований социального благополучия отдельных обществ и социальных групп предполагает комплексный анализ десяти показателей, в том числе и указанных выше [1]. В рамках данной работы особый интерес представляет исследование В.В. Нагайцева и Е.В. Пусовало-вой о соотношении уровня социальной напряженности и конфликтности с показателем социального благополучия населения [2].
В основе отечественной традиции изучения социальной напряженности лежит определение А.В. Дмитриева, который понимал ее как эмоциональное состояние группы или общества в целом, вызванное давлением природной или социальной среды и продолжающееся в течение более или менее длительного времени [3, с. 7]. В.В. Нагайцев и Е.В. Пусовалова обращают внимание на присутствие ситуации противоречия между интересами, социальными ожиданиями всей или части социальной общности и мерой их фактического удовлетворения как главную предпосылку социальной напряженности [4, с. 210].
Анализ теоретических и прикладных работ по проблематике социальной напряженности позволяет сделать вывод, что к основным социальным факторам, усиливающим напряженность, относится неудовлетворенность населения или ее части основными показателями социального благополучия / неблагополучия. Так, о взаимосвязи индикаторов социального благополучия с критериями социальной напряженности как отражении низкого уровня безопасности говорят Д.В. Зайцев, И.Ю. Суркова, Ю.В. Селиванова [5, с. 495]. Ряд показателей, определяющих социальное благополучие и удовлетворенность россиян, по данным всероссийских социологических опросов, на протяжении нескольких лет характеризуются как проблемные [6, с. 40] и являются факторами роста социальной напряженности в стране, в частности социальное неравенство и имущественное расслоение [7, с. 74]
На поведенческом уровне социальная напряженность проявляется в усилении недовольства, нарастании социально-психологической усталости и раздражительности, проявлении агрессии, и в конечном итоге учащении локальных конфликтов и переходе социальной напряженности в стадию острого противоборства [8, с. 71]. Частота и острота возможного возникновения противоречия позволяют оценить фазу, которую достигла напряженность, и может быть определена как уровень конфликтности в социуме, социальной общности или группе [9, с. 22].
Ограничения, связанные с введением в России режима повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции, привели к радикальным изменениям многих сфер общественных отношений, переформатированию практик повседневности, и как следствие затронули все составляющие мультикомпонентной структуры социального благополучия [10, с. 11]. В условиях пандемии традиционно присутствующие в обществе факторы конфликтности обострились и к ним добавились новые, связанные с актуальной угрозой. Об этом в частности свидетельствует карта страхов россиян, составленная Всероссийским центром изучения общественного мнения, которая позволила сделать вывод об обострении социальных страхов и росте уровня тревожности населения. Как указано в аналитическом отчете, ключевыми страхами россиян в 2020 г. стали опасения роста социальной несправедливости (70 %), снижения доходов (68 %) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67 %) [11]. Вместе с тем, в определенные периоды (весна 2020 г.) беспокойство о здоровье (своем и близких) ожидаемо превалировало над возможной угрозой безработицы (60 % и 31 % соответственно) [12].
Подверглась испытанию система безопасности, обеспечивающая, по мнению А.А. Власовой, защиту населения страны от внутренних и внешних вызовов и угроз, способная эффективно предотвращать формирующиеся опасности [13, с. 39]. Среди фиксируемых в социальных опросах показателей этого можно в частности указать на уровень доверия россиян к действиям федерального и регионального руководства в условиях эпидемиологической угрозы и опасения того, что не будет оказана бесплатная медицинская помощь или она будет плохого качества. Так, последний показатель достиг в декабре 2020 г. 62 % (для сравнения в предшествующие два «доковидных» года он варьировался в диапазоне от 10 % (сентябрь 2018 г.) до 39 % (январь 2019 г.)) [14].
В социально-психологическом плане чрезвычайная ситуация проявляется в усилении негативных настроений и переживаний в повседневной жизни людей, формировании и развитии стрессовых реакций в ответ на изменившиеся условия жизни [15, с. 212]. Чувство одиночества, вызванное режимом самоизоляции, усиливает симптомы психологического неблагополучия и тревогу [16, с. 53].
Изменение социальных практик проявилось не только в сужении круга социальных контактов, ограничении социальной активности, изменении режима работы / учебы (использование дистанционных технологий), но и в повседневных привычных способах соблюдения санитарной безопасности: обязательное ношение средств защиты (маски, перчатки), соблюдение дистанции, измерение температуры, предъявление при необходимости медицинских документов (ПЦР-тест, сертификат о вакцинации, прочее) и т. д.
При этом, как отмечают исследователи, достичь желаемого эффекта в обеспечении безопасности возможно только на основе культуры компромисса по поводу благополучия и справедливости для всех [17, с. 39], т. е. проявляя ответственность, самоконтроль, заботу и доверие по отношению к окружающим. Однако, как показал опрос, проведенный Т.А. Нестик, на данный момент в этом плане в российском обществе также наблюдаются определенные проблемы. Согласно полученным данным, 45 % опрошенных считали, что нельзя полагаться на то, что люди будут соблюдать правила предосторожности во время эпидемии; 42,3 % сомневались, что их соотечественники, заболевшие во время эпидемии, и их близкие станут соблюдать карантин; а 45,4 % были убеждены, что в случае эпидемии большинство людей не станут сообщать о том, что они заболели, чтобы не оказаться на карантине [18, с. 54]. Отсутствие доверия создает дополнительный конфликтный фон в повседневном межличностном взаимодействии.
С целью изучения отношения молодежи к изменениям в повседневных практиках, связанных с действием в регионе режима повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции в декабре 2020 – январе 2021 г., было проведено социологическое исследование. Социальной базой исследования стали студенты Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ). Метод исследования – анкетный интернет-опрос с использованием платформы Survio (survio.com). В опросе приняли участие 218 человек. Из них 88,9 % мужчины, 11,1 % – женщины.
Опрос показал, что большинство респондентов (70,1 %) почувствовали, что их жизнь изменилась после начала пандемии. При этом как негативные эти изменения оценили более половины опрошенных студентов: 34,3 % студентов заявили, что их жизнь стала немного хуже, 21,2 % – значительно хуже. О позитивных переменах говорили лишь 15,2 % респондентов (из них 8,1 % выбрали вариант «стала значительно лучше», 7,1 % – «стала немного лучше»). Не смогли ответить на вопрос 11,1 % обучающихся в вузе.
Как и у участников всероссийских опросов, среди учащейся молодежи сохраняется тенденция в большей или меньшей степени поддерживать действия руководства региона по борьбе с распространением инфекции. Абсолютно правильными введенные в крае меры считают 25,3 % респондентов, скорее правильными 44,4 %. Не согласна с действиями властей четверть опрошенных: 18,2 % охарактеризовали их как скорее неправильные, 7,1 % – абсолютно неправильные. Затруднились ответить на вопрос 5,1 % студентов.
Наибольшее недовольство, протест у опрошенных вызывают ограничения в области образовательно-развивающей активности молодежи, а именно введение временного очно-дистанционного режима обучения (38,7 %) (см. табл. 1). Поскольку для данной социальной группы обучение занимает важное место в жизни, то проблемы, вызванные резким переходом к новой форме обучения, больше всего беспокоят респондентов. Это подтверждается и данными других исследований, проведенных в вузе. Так, по материалам Н.В. Хлабыстовой и И.А. Терещенко, не нравилась дистанционная форма обучения 72,4 % студентов (из них полностью не нравилась 19,1 %, частично – 53,3 %) [19, с. 182].
На втором месте по степени вызываемого недовольства у респондентов стоят ограничения в сфере досуга: 29,5 % студентов отметили запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий. Данный выбор объясним с учетом результатов исследования Р.М. Ша-мионова, согласно которому для молодежи приверженность к досуговой активности наиболее тесно связана с показателями субъективного благополучия [20, с. 184]. Отношение студентов к другим ограничительным мерам режима повышенной готовности представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Меры режима повышенной готовности, вызывающие недовольство опрошенных студентов *
|
Варианты ответов |
% |
|
очно-дистанционный режим обучения в вузе |
38,7 |
|
запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий |
29,5 |
|
масочный режим в транспорте и при нахождении в закрытых помещениях |
25,5 |
|
соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра |
20,4 |
|
измерение температуры на входе в медицинские и образовательные учреждения |
17,6 |
|
запрет на проведение деловых мероприятий числом участников свыше 100 человек |
14,7 |
|
Другое |
11,2 |
|
соблюдение режима самоизоляции жителями старше 65 лет и другим |
7,4 |
Как уже отмечали, крайне важно сознательное соблюдение правил индивидуальной защиты, в частности ношение маски. Как свидетельствуют данные таблицы 2, студенты в целом придерживаются рекомендаций руководства края, подвергая сомнению только необходимость надевать маску вне закрытых помещений.
Сумма ответов превышает 100 %, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов
Таблица 2 – Соблюдение студентами масочного режима, %
|
Общественные места |
всегда |
иногда |
никогда |
|
В общественном транспорте |
72,1 |
24,4 |
3,5 |
|
В магазинах, развлекательных центрах |
67,6 |
22,4 |
10 |
|
В университете |
77,9 |
17,4 |
4,7 |
|
На улице |
15,2 |
49,6 |
35,2 |
Основным мотивом к соблюдению масочного режима для респондентов является желание позаботиться о здоровье других людей, прежде всего своих близких (33,3 %) и своем собственном (31,3 %). «Нормативную» позицию («если есть такая норма, ее надо соблюдать») проявили 19,2 % студентов. Конформизм («все мои близкие и знакомые носят маску») продемонстрировали 2 % опрошенных. Еще 2 % респондентов, выбравших вариант «другое», говорили о требовании администрации учебных и иных заведений. Оставшиеся 12,1 % выступают категорически против ношения маски.
Основным доводом против соблюдения в полной мере масочного режима для учащейся молодежи является представление о неэффективности данной меры защиты (на это указали 48,5 % опрошенных). 6,3 % считают, что данное обязательное требование ущемляет их права и свободы, 6,1 % говорят о необходимости выработать иммунитет к заболеванию, переболев им, 5,9 % полагают, что есть более сложные проблемы, чем коронавирус. Вариант «другое» (4 %) выбрали те, кто сомневается в том, что коронавирус действительно существует, являются сторонниками теории заговора. Позитивным моментом является то, что для 29,3 % опрошенных нет разумных объяснений для того, чтобы не носить маску.
В любом обществе поведение людей корректируется с помощью механизма социального контроля. Данные опроса свидетельствуют, что менее половины молодых людей готовы воздействовать на окружающих их людей, обеспечивая защиту от инфекционных заболеваний. 21,2 % студентов абсолютно уверены, что стоит делать замечания людям, которые в общественных местах не надевают маску. Еще 23,2 % скорее согласны с этой позицией. Не согласны полностью или частично 42,4 % респондентов (14,1 % и 28,3 % соответственно). 13,1 % опрошенных не имеют четкой позиции по данному вопросу.
В большинстве случаев студенты мирно реагируют на замечания со стороны других людей. 40,4 % респондентов готовы после замечания немедленно надеть маску, осознавая свою неправоту, 20,2 % также делают это, но испытывая или выражая недовольство. Пассивную негативную реакцию («не надену маску, молча уйду подальше от человека, сделавшего замечание») продемонстрировали 2,1 % опрошенных. Конфронтационная реакция характерна для 4 % молодежи («не надену маску, выскажу свое мнение, протест по данному поводу»). У трети опрошенных (33,3 %) реакция зависит от ситуации («все зависит от того, где это произошло, и кто сделал мне замечание»). При этом в практике всех опрошенных были ситуации, когда в ходе социального взаимодействия поднимался вопрос о ношении маски: 92 % респондентов сталкивались с тем, что сотрудники различных учреждений (банк, магазин и т. д.) отказывали в обслуживании человеку без маски; 73,1 % наблюдали ситуацию, когда в общественном транспорте или общественном заведении человеку предлагали надеть маску, а он отказывался.
Более половины опрошенных молодых людей (52,5 %) отмечают за последние полгода рост количества конфликтов, связанных с выполнением требований режима повышенной готовности. О сохранении уровня конфликтности на том же уровне заявили 31,3 % студентов. По мнению 8,1 % опрошенных, произошло уменьшение количества конфликтов. Такой же процент респондентов говорит об отсутствии конфликтов в принципе.
Анализ местных СМИ и интернет-источников показывает, что периодически возникают конфликты, напрямую связанные с соблюдением масочного режима. Так, в начале 2020-2021 учебного года из-за отказа измерить температуру не пустили на уроки ученицу одной из школ г. Краснодара [21]. Опрос среди студентов КубГТУ свидетельствует, что в подобной ситуации респонденты в большей степени готовы поддержать позицию администрации школы, поскольку она заботится о здоровье учеников и учителей (37,4 %) либо так как она выполняет предписание государственных органов (22,2 %). Позицию ученицы поддержали лишь 11,1 % опрошенных, мотивируя это тем, что данная мера не имеет смысла (7,1 %) или ущемляет права ребенка (4 %). 21,2 % респондентов отмечают правомерность позиции обеих сторон конфликта, 6,1 % - считают обе стороны виновными в сложившейся ситуации.
Таким образом, социально-экономическая ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, оказала влияние на социальное благополучие россиян и усилила социальную напряженность в обществе. У российской молодежи, как и у их сверстников за рубежом, усилилась обеспокоенность по поводу последствий для психического здоровья, занятости, распола- гаемого дохода и образования [22]. Проведенный опрос показал, что, несмотря на весь дискомфорт, вызываемый режимом повышенной готовности, студенческая молодежь в большинстве случаев не склонна прибегать к конфронтационным стратегиям, демонстрирует умеренный уровень конфликтности, принимая, хотя и с оговорками, новые здоровьесберегающие практики. Новая социальная реальность может стать дополнительным фактором формирования конфликтологической компетентности, создавая ту культуру консенсуса, которая в дальнейшем позволит обществу на основе доверия эффективно справляться с подобными кризисными ситуациями.
Список литературы Социальное благополучие молодежи и уровень конфликтности в условиях ограничений, связанных с COVID-19 (на примере студентов КубГТУ)
- Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimensional analysis of 21 countries / K. Ruggeri, E. Garcia-Garzon, Á. Maguire [et al.] // Health and Quality of Life Outcomes. 2020. Vol. 18. 192. https://doi.org/10.1186/s12955-020-01423-y.
- Нагайцев В.В. Пустовалова Е.В. Уровень социальной напряженности в системе показателей социального благополучия населения региона // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 2-2 (66). С. 209–213.
- Дмитриев А.В. Конфликтогенность миграции: глобальный аспект // Социологические исследования. 2004. № 10. С. 4–13.
- Нагайцев В.В. Пустовалова Е.В. Указ. соч. С. 210.
- Зайцев Д.В., Суркова И.Ю., Селиванова Ю.В. Социально-экономическое благополучие и социальная напряженность в приволжском регионе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2019. Т. 19. № 3. С. 494–502. https://doi.org/10.22363/2313-2272-2019-19-3-494-502.
- Сушко П.Е. Социальное благополучие населения России в контексте доступности социальных благ // Информационно-аналитический бюллетень Института социологии ФНИСЦ РАН. 2020. № 1. С. 39–53. https://doi.org/10.19181/INAB.2020.1.3.
- Осеев А.А. Социальная напряженность и социальные конфликты в российском обществе: предпосылки, стадии развития и индикаторы // Социальная политика и социология. 2014. Т. 2. № 4 (105). С. 69–83.
- Там же. С. 71.
- Заяц О.В., Шмелёва А.А. Уровень конфликтности в организации: межкультурный аспект (опыт социологического исследования в центре социального обслуживания) // Теория и практика общественного развития. 2019. № 1 (131). С. 22–26. https://doi.org/10.24158/tipor.2019.1.3.
- Костина Е.Ю. Социальное благополучие и социальная безопасность в условиях глобализации современного общества // Universum: общественные науки. 2015. № 6 (16). С. 11.
- Карта страхов россиян 2020: аналитический обзор [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analyticalreviews/analiticheskii-obzor/karta-strakhov-rossijan-osen-2020 (дата обращения 17.09.2021).
- Коронавирус: борьба продолжается! [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/koronavirus-borba-prodolzhaetsya (дата обращения 17.09.2021).
- Власова А.А. Социальная безопасность в структуре социального благополучия человека и общества // Социальные и гуманитарные знания. 2017. Т. 3. № 1. С. 35–41.
- Карта страхов россиян 2020: аналитический обзор …
- Нагайцев В.В. Пустовалова Е.В. Указ. соч. С. 212.
- Нестик Т.А. Влияние пандемии COVID-19 на общество: социально-психологический анализ // Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2020 Т. 5. № 2 (18). С. 47–83. https://doi.org/10.38098/ipran.sep.2020.18.2.002.
- Власова А.А. Указ. соч. С. 39.
- Нестик Т.А. Указ. соч. С. 54.
- Хлабыстова Н.В., Терещенко И.А. Оценка студентами очной формы дистанционного обучения в период пандемии COVID-2019 (на примере ФГБОУ ВО "Кубанский государственный технологический университет") // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2020. № 4 (269). С. 180–185.
- Шамионов Р.М. Соотношение социальной активности и удовлетворенности базовых психологических потребностей, субъективного благополучия и социальной фрустрированности молодежи // Сибирский психологический журнал. 2020. № 77. С. 176-195. https://doi.org/10.17223/17267080/77/9.
- Коронавирусный скандал: в одной из школ Краснодара девочку не пустили на уроки из-за отказа измерить температуру [Электронный ресурс] // Кубанские новости. URL: https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/09/22/koronavirusnyy-skandal-v-odnoyiz-shkol-krasnodara-devochku-ne-pustili-na-uroki-iz-za-otkaza-izmerit/ (дата обращения 17.09.2021).
- Youth and COVID-19: Response, recovery and resilience. // Organization for Economic Co-operation and Development. URL: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/ (дата обращения 17.09.2021).