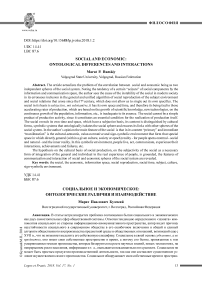Социальное и экономическое: онтологические различия и взаимодействие
Автор: Бузский Марат Павлович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье актуализируется проблема соотношения бытия социального и экономического как двух самостоятельных сфер общественной системы. Отмечая тенденцию определенного «захвата» компонентов социального со стороны информационно-коммуникативного пространства, автор видит причину неустойчивости социального в современном обществе в его ошибочном включении в общий и единый алгоритм общественного воспроизводства предметной среды и общественных отношений, возникший еще с XVII в., что не позволяет выделить его собственную специфику. Социальное в своей основе субъектно, а не предметно, оно имеет свои собственные пространство и время, а потому его бытие, привязанное к тем ускоряющимся темпам производства, которые базируются на росте научных знаний, новых технологиях, на непрерывном росте населения, информации и т. д., оказывается неадекватным его сущности. Социальное не может быть простым продуктом производственной деятельности, так как оно составляет существенное условие осуществления самого производства. Социальное обнаруживает свои собственные время и пространство, которые имеют субъектную основу, в его содержании выделяются культурные формы, знаково-символические системы, что онтологически обособляет сферу социального и обеспечивает его связи с другими сферами общественной системы. Основную особенность социального автор видит в том, что в его содержании «первичным» и непосредственным «проявлением» выступают культурно-смысловая, ценностно-нормативная и знаково-символическая среды, образующие то особое пространство, в котором - как непосредственно общей (в рамках данной культуры, эпохи или общества) реальности - для людей открывается внешняя - социально-природная - и внутренняя реальность. В этой символической среде люди живут, действуют, общаются, переживают свои взаимодействия, достижения и провалы и т. п. Обосновывается гипотеза о культурной основе производства социального, о субъектности социального как необходимой формы интеграции общего и единичного в реальном опыте людей, раскрываются особенности связи и взаимодействия социальной и экономической сфер общественной системы.
Информационное пространство, общественное воспроизводство, социальное время, субъект, культура, знаково-символическая среда, социальное, экономическое
Короткий адрес: https://sciup.org/14975019
IDR: 14975019 | УДК: 14.41 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2018.1.2
Текст научной статьи Социальное и экономическое: онтологические различия и взаимодействие
DOI:
Одна из базовых категорий социальной философии и социологии – «социальное» – сегодня обнаруживает необходимость своего дальнейшего концептуального уточнения, поскольку оказывается в двойственном положении: этот феномен и существует – он признается как реальность и действительно таковой является, но и не существует – как нечто уже «исчезнувшее». Действительно, с одной стороны, категория «социальное» достаточно всесторонне «нагружена» в социальной философии и социологии. Так, современная социальная теория и общественная практика широко используют понятия «социализация личности», «социальная структура», «социальный статус», «социальная роль» и т. д., рассматривая социум как одну из базовых сфер общественной системы. Но, вместе с этим и в противовес этому, сегодня говорят также о «смерти социального», на месте которого возникло «сетевое общество» (М. Кастельс), «общество знаний» (Д. Белл), «электронное общество» и т. д.
И вопрос о социальном актуализируется не только потому, что два его «образа» онтологически находятся на двух разных полюсах, но обнаруживается тенденция информационного «захвата» социального: информационное пространство как сфера осуществления коммуникаций (в первую очередь – Интернет) перемещает важные компоненты социума в свою орбиту, превращая эти компоненты в ресурсы дальнейшего процесса информатизации общественной системы. М.В. Ростовцева, А.А. Машанов и З.В. Хохрина, которые исследуют социальные последствия интернет-коммуникаций, пишут: «“Обособление” чело- века от общества в современных информационных условиях гипертрофируется, что порождает диалектическое противоречие. Оно связано с действительным “обособлением” и практически безнадежной потерей духовной связи с предыдущими поколениями, но с другой стороны мы наблюдаем процесс массового “обобществления”. Человек стремится к объединению, к включению себя в общество, но не в общество в его традиционном понимании, а в сообщество, а, точнее, в сообщества, имеющие информационную природу. Мы не побоимся утверждать, что к настоящему времени уже практически произошла замена традиционных институтов социализации такими виртуальными информационными сообществами. Это касается даже института семьи» [8, c. 1284].
Рассматривая взаимодействие информации и социума, М. Кастельс пишет: «С одной стороны, образование виртуальных сообществ, базирующихся главным образом на онлайновой коммуникации, описывалось как кульминация исторического процесса разделения места расположения и социальности: новые – избирательные – модели социальных отношений приходят на смену формам взаимодействия между людьми, основанными на территориальных связях. С другой стороны... распространение Интернета способствует социальной изоляции, разрыву общественных связей и разрушению семейной жизни, когда анонимные индивидуумы практикуют беспорядочную коммуникабельность, отказываясь от личного взаимодействия» [5, c. 141].
И этот разрыв общественных связей на основе развития интернет-коммуникаций ох- ватывает не только отношение индивидов и социума. Здесь происходит социальная детер-риторизация: социальные функции выносятся за рамки своего социального пространства и даже времени, своего социального «места» и тем самым отрываются и от самой социальной среды: «Общественные пространства – агоры и форумы в их различных проявлениях, места, где определялся круг вопросов для обсуждения, где личные дела превращались в общественные, где формировались, проверялись и подтверждались точки зрения, где составлялись суждения и выносились вердикты – эти пространства вслед за элитой сорвались со своих местных якорей; они первыми “детерриторизуются” и распространяются далеко за пределы возможностей “естественной” связи, которыми обладает любая местность и ее жители» [1, c. 40].
И здесь необходимо задать вопрос: почему социальное оказывается сегодня настолько незащищенным, что начинает разрушаться под действием более частных для него факторов, например, информации? Какие концептуально-мировоззренческие дефекты возникли в понимании социального, может быть, еще в начале «запуска» той программы неограниченного развития общества на основе расширенного воспроизводства, в которой продолжает существовать современное общество, начиная примерно с ХVII в. – начала формирования капитализма? Предварительно выдвинем предположение (и постараемся обосновать его в дальнейшем изложении), что источником негативных для социума последствий стало включение его в сферу той общей предметности, которая постоянно создается в обществе независимо от способа производства. Действительно, раз общество как система – это источник любого своего содержания, то почему социальное исключют из этого общего алгоритма? Оно также – продукт общественного воспроизводственного процесса. Наиболее четко эта позиция оказалась выраженной в марксизме, который связывает социальную структуру непосредственно с историческим уровнем развития производства.
Так, молодой Маркс, разъясняя в письме к Анненкову свою концепцию материалистического понимания истории, сделал акцент на том, что вещи, которые возникают в конкретные периоды истории, выражают соответствующие общественные отношения. «Ветряная мельница дает нам феодализм, а паровая машина – капитализм» – раскрывал он русскому писателю свою позицию. Гораздо позже, уже на рубеже 10–20 гг. ХХ в., в статье «Великий почин» В.И. Ленин определил классы как «большие группы людей, отличающиеся по их месту в системе общественного производства, по их отношению к средствам производства». Классы, таким образом, порождены определенной системой производства и вне ее самоопределиться не могут. И здесь очень интересный момент: являясь важной частью социальной структуры, классы не получают своего социального обоснования, хотя признается их связь с культурой, идеологией и тем более – с политической сферой жизни общества.
Но если содержание социального «производится» так же, как и другие стороны общественной жизни, то закономерно возникают условия, когда само социальное становится особым «предметом» специального государственно-общественного конструирования . Свое практическое воплощение эта идея получила в строительстве социалистического общества – планомерном формировании всех компонентов общественной системы – начиная с человека и заканчивая культурно-ценностными формами общественной жизни. Здесь, однако, материальная производственная деятельность получила свое огромное мировоззренческое «подкрепление» в идеологии, которая приобрела функцию направляющего ориентира в самой системе общественного воспроизводства.
Была ли такая практика позитивной, или же она оказалась фатальной ошибкой для дальнейшего развития СССР и других стран социализма? Мы не будем давать здесь какую-либо оценку этому историческому периоду в жизни общества, так как пока не имеем оснований считать это хорошим или плохим социальным опытом общества. По крайней мере, таков был ответ социалистических стран на вызов внешнего мира и требования собственного развития. Но уже можно сказать, что включение социального в общий механизм общественного воспроизводства, направлен- ного на формирование исторически конкретной предметной среды как необходимого условия бытия общества, обнаруживает в ХХ в. существенную проблему: социальное в своей основе субъектно, а не предметно, оно имеет свои собственные пространство и время, а потому его бытие, привязанное к тем ускоряющимся темпам производства, которые базируются на росте научных знаний, новых технологиях, на непрерывном росте населения, информации и т. д., оказывается неадекватным его сущности. В горизонте ускоряющегося развития общественной системы социальное обнаруживает свое отставание от сферы экономического: социальные нормы перестают соответствовать тем требованиям, которые идут от техногенной сферы общества, а потому эти нормы сами «технологизируются», выступая простым проводником развития техногенной среды.
Это преодоление отставания социального стало, в частности, одним из важных направлений той индустриализации, которая происходила в СССР с 30-х годов. Известно, что И.В. Сталин, обосновывая ускоренный процесс социалистической индустриализации, отмечал: «либо мы пробежим этот период за 10 лет, либо нас сомнут». Таким образом, целенаправленное и планомерное опережающее воспроизводство социального стало в значительной мере ответом СССР на вызовы внешней среды и попыткой преодолеть сохраняющиеся здесь диспропорции. С позиций общего процесса воспроизводства, социальное отставание преодолевалось на основе резкого роста темпов урбанизации, развития всеобщего образования: ведь еще к началу индустриализации значительная часть населения России (как и СССР) была деревенской.
Современное информационное общество открывает процесс глобализации, для которого, конечно, не существует адекватного ему социального пространства и времени. Информация расширяется и ускоряется в своем времени, которое в большей мере техническое (физическое, календарное), чем социокультурное. И здесь уже начинают проявляться процессы, угрожающие социальным и культурным основаниям бытия человека. Так, современные авторы с тревогой замечают, что в современном обществе «все возрастающие темпы (курсив мой. – М. Б.) производства энергии никак не соотносятся с высшими ценностями и смыслом человеческого существования… все в большей мере вступают в противоречие с ним и грозят человечеству необратимыми последствиями» [3, c. 10].
Эта угроза осознается на основе того, что техническое и социальное рассматриваются в некоторой общей плоскости: именно в ее пространстве и открывается указанное несоответствие. Но технический прогресс не остановить, и его выхождение за мир человеческих ценностей и культуры выступает как устойчивая и объективная тенденция. И тогда возникает вопрос: как быть с социальным? Должно ли оно сохранять в этом процессе глобального ускорения свою изначальную идентичность – быть пространством взаимодействия социальных субъектов, основой видения и понимания реальности данным обществом, или же оно должно трансформироваться? Но в таком случае – как и на какой основе?
Конечно, изменяющийся мир постоянно нуждается в его «переопределении». Как справедливо замечает А. Тоффлер, «мир, который возникает с огромной скоростью из столкновения новых ценностей и технологий, новых политических отношений, новых стилей жизни и способов коммуникации, требует совершенно новых идей и аналогий, классификаций и понятий» [9, c. 20]. Но где проходит граница этих «переназваний»? Ведь в обществе, как и в остальной объективной реальности, существуют свои константы , которые сохраняются, так как их собственное время изменений «течет медленно». И одной из таких констант выступает феномен субъекта – основы и условия самого существования общества с его воспроизводственной и коммуникативносмысловой основой. С этих позиций и социальное как пространство межсубъектного взаимодействия должно сохранять свою онтологическую идентичность в контексте исторического развития общества.
Но что же выражает категория «социальное»? Как оно понимается в современной философской литературе? Можно сказать, что научных сообщений, связанных с исследованиями онтологии социального, по-видимому, недостаточно, хотя в других аспектах – уточнения понятийного статуса, структуры и дру- гих характеристик социального – новые публикации возникают постоянно.
Ю.М. Резник в своей обзорной статье о понятии «социальное» пишет: «В самом общем виде понятие “социальное” можно определить как область или сферу реальности, связанную с человеческими взаимодействиями ». В этом аспекте, продолжает автор, «оно имеет четыре основных значения: 1) социальное как надприродное, надорганическое существование человека , поднявшегося в своем развитии на уровень духовной жизни; 2) социальное как синоним общественного (то есть способ совместной деятельности, или способ организации человеческих отношений); 3) социальное как социентальное , то есть понятие, служащее для обозначения совокупности отношений между людьми как представителями различных общностей (классов, этносов и т. д.) и институтов (государство, партии, семья и пр.), осуществляемых в пределах всего социума или внутри сфер его жизнедеятельности; 4) социальное как собирательное и нормативное понятие , обозначающее сферу государственного (или негосударственного) обеспечения условий труда и жизни людей, а также регулирования отношений между ними по поводу удовлетворения потребностей и в защите их права на достойную жизнь» [7, с. 89–90].
Автор считает, что научную и философскую основу имеют лишь три первых трактовки социального. С нашей точки зрения, ближе всего к социальному стоит его понимание как социентального – отношения людей друг к другу и к институтам, учреждениям в контексте того внутреннего пространства общностей, которое эти субъекты представляют с позиций своей бытийной идентичности. Служебные, профессиональные, политические, юридические и другие отношения индивидов и социальных групп (коллективов) заданы здесь нормами той или иной общности.
Соглашаясь, в целом, с данным подходом, тем не менее следует отметить, что в нем не выделен статус социального, то есть не отмечен его «бытийный уровень» по отношению к другим сферам общества. Тем не менее отмечается процесс осмысления такого статуса через соотношение понятий «часть-целое», «форма-содержание» и др. Так, данный автор, обобщая существующие подходы к связи социального с другими сферами жизни общества, отмечает, что в соотношении «социальное-культурное» «социальное понимается как форма человеческих взаимодействий, описываемая в терминах “социальная структура”, “группа”, “социальные отношения”, “социальный статус”, “социальная роль” и т. д., а культурное – как содержание взаимодействия, выраженное в терминах “способ деятельности”, “образцы”, “нормы”, “ценности” и т. д.» [7, с. 91]. А в соотношении «социальное-экономи-ческое» – «по характеру системных связей социальное выступает как целое, а экономическое как его часть, отвечающая за жизнеобеспечение общества и адаптацию его членов к условиям окружающей (прежде всего, природной) среды» [7, с. 92].
При всем позитиве исследования этих связей все же определение «места» социального через систему категорий диалектики «размывает» специфику социального в выделенных здесь отношениях, так как здесь его бытийная основа оказывается как бы второстепенной. Но основная особенность социального в том, что здесь «первичным» и непосредственным является культурносмысловая, ценностно-нормативная и знаково-символическая среда – то особое пространство, которое непосредственно открыто людям как некая общая (в рамках данной культуры, эпохи или общества) реальность, через «призму» которой для людей открывается внешняя – социально-природная – и внутренняя реальность. В этой символической среде люди живут, действуют, общаются, переживают свои взаимодействия, достижения и провалы и т. п.
Особая «магия» или двойственность этой среды в слиянии здесь субъективного и объективного: она субъективна, так как полностью зависит и порождается, сохраняется и удерживается на основе совместной деятельности и общения людей, но она же и объективна как нормативная реальность со своей текучей и динамичной структурой, которая создает и удерживает устойчивость конкретного социального, культурного (и вместе с этим – экономического, политического, технологического и др.) порядка. Именно потому, что в общественном производстве люди действуют на основе этой упорядочивающей среды, она сама не может формироваться по тем же основаниям, что и остальная реальность, поскольку именно эта среда, а не возникший предметный мир, создает субъектов этой воспроизводственной деятельности. Ю. Хабермас замечает: «Социальные системы видятся нами как жизненные миры, которые символически структурированы. Мы говорим о системной организации с точки зрения их способности поддерживать собственные границы и продолжать свое существование, преодолевая сложность постоянно меняющегося окружения» [10, с. 4].
П. Бергер и Т. Лукман рассматривают социальность как «матрицу всех социально объективированных и субъективно реальных значений; целое историческое общество и целая индивидуальная биография рассматриваются как явления, происходящие в рамках универсума» [2, с. 158]. Основой социума авторы считают язык, структурирующий формы общения и само пространство социума, который «благодаря своей способности выходить за пределы “здесь-и-теперь”... соединяет различные зоны реальности, повседневной жизни и интегрирует их в единое смысловое целое... Язык формулирует лингвистически обозначенные смысловые поля и смысловые зоны» [2, с. 68–71]. Однако сам язык требует воспринимающих его субъектов , которые в зоне действия определенного языка являются субъектами социальными, коллективными. Но тогда как возникают сами субъекты – основа и носители социального ?
Можно предположить, что социальные субъекты возникают объективно и неосознанно для самих людей как особая «превращенная форма»: субъект – это многообразие реальной жизни, «свернутое» как позиция людей по отношению к этой жизненной среде. Это свертывание осуществляется через язык и культуру, различение себя и мира. Социальный субъект – это порождение и условие самой деятельности, в которой обязательным является выделение целей и определение реальности через эти цели. Субъект – это всеобщее условие (и даже некий механизм) расщепления реальности на то, что есть, и то, что должно быть (цель). Поэтому субъект – и «внутри» деятельности, как ее структура, и вместе с тем – пространство и общее условие самой деятельности, которая всегда имеет субъективную форму.
Поэтому социальное – как выделенное пространство бытия субъектов – не может производиться так же, как и любые другие предметы. В данном плане социальное не производится, но производит. Именно в его собственном пространстве находится огромная сфера экономики, пространство которой оказывается распределенным не только организационно и технологически, но и политически. А еще глубже – социально, поскольку материальное производство выступает как функция деятельности социальных субъектов.
Субъектная форма отношения к миру – это особый способ обобщения реальности, который присутствует в языке, в юридических, этических, эстетических и других нормах. Субъектная форма – это обобщение, в котором интегрируются такие системы, как язык, нормы деятельности и общения, позиции данной группы населения в общественной системе, социальные роли и позиции этих групп. Именно поэтому данная форма оказывается социальным субъектом – нацией, классом, социальной общностью. Раскрывая понятие «социальная форма», В.Е. Кемеров отмечает: «Способность человека открывать и воссоздавать в предметах их сверхчувственные социальные свойства предполагает и в нем носителя и творца подобных же свойств. Он овладевает социальной формой предмета потому, что владеет социальной формой своего собственного предметного бытия, находится в этой форме (курсив мой. – М. Б .), выявляет ее границы, преодолевает их» [6, с. 129]. Но отсюда следует, что социальное имеет сложную структуру своего пространства и времени, так как в нем сосуществуют многие субъекты, формируя свое собственное пространство и время, свои цели и интересы и, соответственно, – свое «расщепление» реальности на фактическое и должное.
Тем не менее, несмотря на социальноисторические различия самих социальных субъектов – классов, наций и др., можно предполагать, что все они возникают на основе одного и того же механизма – превращения реальности, которая существует в их жизненном опыте, в форму отношения к этой реальности, причем содержанием этой формы становится субъективность как способ освоения этой реальности. Именно в рамках этой формы язык как символический универсум соединяется с сознанием и жизнедеятельностью коллективных субъектов, выступая как бытие этноса, нации и даже класса. Социальные субъекты превращают многообразие реальности в некий общий «предмет» (или объект), в рамках которого существует картина мира и вообще любая концептуальная или категориальная модель, в которой для субъектов существует реальность. Ведь функция субъекта – формировать из хаотичной внешней реальности некоторые организованные и осмысленные миры, в которых может работать человеческая логика и существовать человеческий опыт.
Возникновение социальной субъектности – это механизм, позволяющий соединять общее (как понятия, нормы и др.) с одной стороны, и конкретное, фактическое – с другой. Это связь чувственности и мышления, социального пространства и времени, это условие осуществления любой деятельности, выделения смысла, постановки целей и задач. И все это – через процесс «дистанцирования» от данной конкретной реальности, который постоянно осуществляется в бытии общества как арены субъектно-объектного взаимодействия, в котором субъекты осуществляют их собственные познавательные и другие функции. Таким образом, без субъектной формы индивиды были бы не в состоянии постоянно воспроизводить в своих действиях общественные нормы и требования, понимать общественное целое, равно как и вообще участвовать в общественной жизни.
Украинский философ В.П. Иванов еще в 70-е гг. прошлого века обстоятельно раскрыл, каким образом существуют сами субъекты и как они выделяются из реальности. Он писал: «Опыт следует рассматривать в рамках человеческого способа бытия – в единстве его деятельно-практичеcких, общественно-исторических и индивидуальных характеристик. Этот контекст... придает опыту значение особой субъективной формы освоения мира, определяющим свойством которой выступает способность ассимилировать явления бытия как факты жизнедеятельности» [4, с. 132]. Это значит, что субъект – это способ перевода содержания реальности в форму деятельности (впрочем, как и в форму созерцания), то есть способ определения самой деятельности и ее содержания, взятых в контексте определенных интересов, мировоззрения, ценностей и т. д. Указанный автор очень четко это раскрывает, когда указывает, что «в круговороте его (субъекта. – М. Б.) жизнедеятельности должна возникнуть форма, в которой быть в отношении к предмету означало бы то же самое, что быть самим собой» [4, с. 134]. Этой формой является самосознание субъекта (коллективное «Мы» – название нации, этноса, определенного класса), проекцией которого выступает и сознание (самосознание) личности.
Но социальные субъекты возникают не только как внутренняя структура и форма деятельности, но и как освоение реальности через «призму» самих себя, своего бытия в мире. Их основанием теперь является культура , в пространстве смысла которой (язык, символы, ценности и др.) коренится и деятельность. Культура , даже самая примитивная – это способ бытия людей, в котором они уже начинают выходить за рамки чисто природной зависимости и начинают делать первые шаги обособления от природы , то есть формируют способы отношения к ней (язык, труд, охота, магия, фетишизм и др.).
И в этом аспекте культура выступает как особое содержание, которое как бы «объективирует» человеческую субъективность, существуя в знаково-символических, текстовых реальностях. Культура – это оторвавшаяся от конкретных субъектов и их собственного исторического времени, объективированная в символах и образах, в сюжетах и жанрах субъективность, которая переходит в ценности и выполняет регулятивно-идентификационную роль в развитии общества. И она становится одним из важнейших источников воспроизводства социального . Социальное, таким образом, возникает и сохраняется как особое интегративное пространство, в котором существуют реальные коллективные субъекты (общности, поколения и др.), пространство и формы культуры, регулятивные нормы морали, этики, традиционные (язык) и новые средства коммуникации, опыт межсубъектного взаимодействия.
Однако нельзя считать, что сфера экономического никак не воздействует на социальное. Во-первых, на основе экономической сферы происходит постоянное обновление и расширение самого пространства социума: новые знания, требования, технизация и технологизация средств коммуникаций (Интернет), ускорение общественных изменений – все это корректирует социальное, наполняя его нормами и содержанием современности . В этом смысле экономическое имеет конкретное отношение к воспроизводству и изменению социального, которое, однако, не является первостепенным и определяющим. Взаимодействие экономического и социального оказывается не прямым, непосредственным, а происходит через общее изменение общественной системы: постоянное ускорение времени в этой системе приводит к тому, что социальное должно приобретать «защитный пояс» (И. Лакатос), чтобы в своем самосохранении реагировать на изменения среды. И таким «поясом» становится технологизация самой бытийности субъектов: любые действия и связи людей, их включение в производство, в социальные роли, в коммуникации и т. п. сегодня требуют «технологической инструментальности» – применения таких средств, на основе которых преодолевается разбалансированность социального, культурного пространства, вызванная несовпадением времени бытия социального и его субъектов с одной стороны, и ускоряющимся временем процесса производства с другой.
Социальное объективно не может быть «снято» уже потому, что в нем содержатся границы понимания, целеполагания, потребностей, интересов, ценностей, производственные и культурные возможности действующих поколений данной эпохи как субъектов. Поэтому «игнорирование» особенностей социального в современных концепциях информационного общества и его модификациях является серьезной недоработкой социальной теории и общественной практики, которые не находят условий и способов такого расширения пространства социального, в котором может быть определена логика самих информационных процессов, их общественно-исторический и онтологический статус.
И когда говорят о неограниченных возможностях искусственного разума, то продол- жают неосознанно или непреднамеренно, но тем не менее – реально – «выводить» субъективность из мира социокультурной сферы и вписывать этот разум в овеществленно-техногенную среду как ее подлинное свойство. Тем самым социальное и субъектное становятся как бы «лишними», поскольку уже сейчас машинный интеллект (компьютер) считает быстрее человека, не делает ошибок, имеет неограниченный объем памяти, снабжен огромным количеством технологий и т. п. Но машинный интеллект в принципе лишен свойства включаться в человеческие смыслы – стыд и радость, страх и восторг. Машинный интеллект – это сегодня способ регулирования огромными и сложнейшими техническими системами в условиях невиданных темпов изменений, но последние происходят не во времени самих субъектов и социума, а в физическом времени, в котором и движутся овеществленные процессы и их носители. Машинный интеллект – это особый «защитный пояс», который возникает между человеком-субъектом в его социокультурном бытии, с одной стороны, и техногенными параметрами общественного воспроизводственного процесса, который в целом осуществляется в рамках экономической системы. И доверять этому интеллекту функцию субъекта – огромная ошибка.
Восстановление истинного смысла и статуса социального в современном обществе – это значительный шаг к гуманизации информационно-техногенной реальности, шаг к преодолению того смыслового и гуманитарного кризиса личности, который отчетливо проявляется в наше время. Решение этого вопроса открывает путь к обновлению социальных институтов (особенно – образования и культуры), к значительному уменьшению – если не преодолению – рискогенности современного планетарного сообщества, к выработке тех принципов и норм международного общения и сотрудничества, которые востребованы в современном процессе глобализации.
Список литературы Социальное и экономическое: онтологические различия и взаимодействие
- Бауман, З. Глобализация: последствия для человека и общества/З. Бауман. -М.: Весь мир, 2004. -188 с.
- Бергер, П. Социальное конструирование реальности/П. Бергер, Т. Лукман. -М.: Медиум, 1995. -323 с.
- Иванов, В. Н. Социальные технологии в современном мире/В. Н. Иванов. -М.: Славянский диалог, 1996. -335 с.
- Иванов, В. П. Человеческая деятельность -познание -искусство/В. П. Иванов. -Киев: Наукова думка, 1977. -252 с.
- Кастельс, М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе/М. Кастельс. -Екатеринбург: У-Фактория, 2004. -328 с.
- Кемеров, В. Е. Введение в социальную философию: учебник для вузов/В. Е. Кемеров. -М.: Академический Проект, 2001. -314 с.
- Резник, Ю. М. Понятие «социальное» в современной философии и науке/Ю. М. Резник//Вопросы социальной теории. -2008. -Т. 11, Вып. 1 (2). -С. 88-111.
- Ростовцев, М. В. Социально-философские проблемы социализации личности в условиях информатизации современного общества/М. В. Ростовцев, А. А. Машанов, З. В. Хохрина//Фундаментальные исследования. -2013. -№ 6-5. -С. 1282-1286.
- Тоффлер, А. Третья волна/А. Тоффлер. -М.: АСТ, 1999. -784 с.