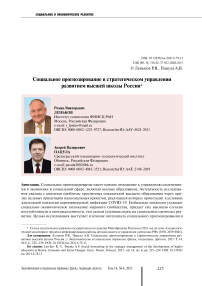Социальное прогнозирование в стратегическом управлении развитием высшей школы России
Автор: Леньков Роман Викторович, Пацула Андрей Валерьевич
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Социальное и экономическое развитие
Статья в выпуске: 6 т.14, 2021 года.
Бесплатный доступ
Социальное прогнозирование имеет прямое отношение к управлению изменениями в экономике и социальной сфере, включая высшее образование. Актуальность исследования связана с анализом проблемы прогнозных показателей высшего образования через призму целевых ориентиров национальных проектов, реализация которых происходит в условиях длительной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Глобальная эпидемия ухудшает социально-экономическое положение мирового сообщества, придает ему высокую степень неустойчивости и неопределенности, тем самым усиливая спрос на социальные прогнозы развития. Целью исследования выступает изучение потенциала социального прогнозирования в государственном стратегическом управлении развитием высшей школы России. Специальной задачей, раскрывающей его научную новизну, является диагностирование проблемы измерения и профилирование методологии воспроизводства «стратегической интеллигенции» (элиты) как «преобразующей» субъектности. Авторы опирались на теорию социокультурной модели управления, выдвинутую профессором А.В. Тихоновым, а также на авторский социопрогностический подход к управлению, который выступает особым методологическим средством научного поиска, интегрирующим идеи и теоретические конструкты в области социально-гуманитарного знания с обоснованием решений перспективных проблем на основе современных проектных технологий. Указанные инструментальные средства позволили осуществить профилирование многовариантных уровней научного предвидения и стратегического управления, проанализировать прогнозно-регулирующие действия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации как макрорегулятора функционирования и развития высшей школы, определить ключевые компоненты переформатирования и оптимизации социального прогнозирования в государственном стратегическом управлении развитием высшего образования. В основу работы положена востребованная академическим сообществом перспективная практика исследования управляемости регионального развития и социального группообразования, приобретенная учеными Центра социологии управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН в 2015-2020 гг., в том числе достигнутая при изучении высшего образования как ресурса управления социокультурной модернизацией регионов. Материалы статьи имеют теоретическое и практическое значение, адресованы специалистам в области государственного, регионального и муниципального управления, а также экспертам по социальному прогнозированию и стратегическому управлению развитием высшей школы России.
Социально-экономическое прогнозирование, управление развитием, стратегический прогноз и управление, социокультурная модернизация, высшее образование, социальное группообразование, интеллигенция
Короткий адрес: https://sciup.org/147236369
IDR: 147236369 | УДК: 001.18, | DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.13
Текст научной статьи Социальное прогнозирование в стратегическом управлении развитием высшей школы России
В практике социально-экономического прогнозирования советского и постсоветского периодов развития часто менялись дискурсы, определяющие потенциальные возможности прогнозирования вообще и социального прогнозирования в частности, его целесообразность, место и роль в государственном управлении, необходимость сочетания с планированием.
Началом переломного этапа во взглядах на данный вид прогнозирования явились 60-е годы XX века: с ним стали увязывать подготовку Комплексной программы научно-технического прогресса (НТП) и его социально-экономических последствий, а также ряда целевых программ. Среди значимых прогнозов того времени, определивших пути возможного развития общественных процессов в СССР, находятся вероятные сценарии будущего состояния жиз- ни и ситуации с рабочей силой в районах осваиваемых территорий и при создании новых производств; прогнозирование жизни малочисленных народов Севера и Дальнего Востока и вероятных путей ее изменения («траектория социальных перемещений»); предложения по интеллектуализации общественного труда, реформированию системы народного образования и ряд других.
В последующие два десятилетия практика составления прогнозов, предшествовавших работе по реализации государственных планов социально-экономического развития, приобрела характер массовой кампании. Это послужило опытом подготовки долгосрочного перспективного плана на 15 лет и Комплексной программы НТП на уровне отраслей, регионов, отдельных крупных предприятий, на базе автоматизированной системы расчетов, предусматривающей включение прогнозных моделей в систему планирования.
Для сферы образования особый интерес имела научно-методическая разработка «Прогнозирование развития и мониторинг состоя- ния высшего и среднего профессионального образования (теория, методология, практика)», удостоенная в 1998 году премии Президента Российской Федерации. В ней были представлены модели прогнозирования развития высшего и среднего профессионального образования, спроса на специалистов различных категорий и ожидаемые результаты прогноза; дано научное обоснование мониторинга как инструментария выработки и реализации стратегии развития высшей школы [1].
Авторы монографии «Прогнозирование будущего: новая парадигма» В.М. Бондаренко и Г.Г. Фетисов считают, что социально-экономическое прогнозирование в СССР играло положительную роль. Оно было полезно для обеспечения качества планово-управленческих решений на краткосрочную и среднесрочную перспективу, способствовало превращению прогнозирования в системно-плановую деятельность государственного масштаба. В частности, организационно-технологическая структура годового и пятилетнего планирования предусматривала строгую реализацию последовательно-параллельных операций: вариативное целевое прогнозирование; ключевые направления экономического и социального развития; проекты государственных планов с дополнениями в части программ решения экономических и социальных проблем. Вместе с тем такое применение прогнозов в плановом управлении включало и многие просчеты в отношении прогнозирования, низкую методическую настройку и слабую организацию прогнозных оценок к изменениям внутренней и внешней ситуации [2].
Недостатки социально-экономического прогнозирования советского периода развития страны органично присущи прогнозированию по внутренней его природе, поэтому перекочевали в экономику и социальную сферу постиндустриального, информационного этапа развития России. Но научное предвидение, способы его осуществления и применения обладают высокой сензитивностью к типам экономических и социальных систем. В связи с этим наряду с изучением опыта актуальными в современных условиях хозяйствования становятся обоснование общеметодологических проблем и методических средств социальной прогностики; методологический анализ и оценка методов научного прогнозирования, определение возможностей и ограничений каждого из них; поиск надежных приемов экспериментальной проверки выдвигаемых прогнозов и верификации средств, предлагаемых для их осуществления. В той мере, в которой социальное прогнозирование выполняет функции регулирования и настраивания экономики и политических процессов на достижение желаемого результата, основными его объектами выступают явления, события и действия, в значительной мере поддающиеся управлению посредством разных стимулов и методов. Сами прогнозы разрабатываются в качестве сигналов-индикаторов недопустимости управленческих решений, порождающих нежелательные последствия.
Применительно к прогнозированию развития высшей школы России стратегически важен социологический мониторинг состояния высшего образования, особенно в области подготовки высококвалифицированных трудовых кадров как ресурса развития отечественной экономики и реализации национальных проектов.
Методология и методы
Теоретической и методологической основой исследования выступает парадигма научного предвидения, разработанная в 1950-е гг. А.М. Гендиным, И.В. Бестужевым-Ладой и рядом других ученых, позже адаптированная П.В. Агаповым, Т.М. Дридзе, А.И. Селивановым, Б.С. Сивириновым, В.Н. Стегнием, Ж.Т. Тощенко, О.А. Уржа к социологии и социальному управлению.
Согласно новой парадигме прогнозирования будущего прогнозы управляемых (проективных) процессов, предваряющие принятие планово-управленческих решений, формируют научное предвидение результатов и последствий управления, предсказывая тем самым, какие решения по управлению рациональны в той или иной ситуации. В этом смысле такие прогнозы часто называют активными, поскольку они представляют собой средство выработки активного воздействия на объекты прогнозирования, их преобразование и перевод в необходимое состояние. Они используются в планировании, при разработке проектов и программ, принятии плановых решений как средство обоснования рациональности и надежности намечаемых действий и оценки их эффективности [2].
Под социальным прогнозированием мы подразумеваем область социологических исследований, связанных с перспективами социальных процессов и явлений, охватывающую всё тематическое поле социологической науки. Социальные прогнозы направлены не просто на предугадывание будущего, они выявляют назревающие проблемы и высвечивают возможные пути их решения.
В нашей работе применяется научный подход, творчески и последовательно развиваемый исследовательским коллективом под руководством доктора социологических наук, профессора А.В. Тихонова, основоположника теории управляемости спонтанных социальных процессов. В соответствии с указанным подходом управляемость регионального развития и социального группообразования связана с пространственно-территориальной панорамой модернизационных процессов (разным уровнем развития) и гуманистическим основанием модернизации, представляющей собой комплекс социальных и культурных преобразований (социокультурную модернизацию). Управляемость модернизации обеспечивается сбалансированностью взаимодействия между основными ее компонентами: технико-технологической, со-циоэкономической, социокультурной и институционально-регулятивной. В роли последней выступает совокупность регулирующих институтов, одним из которых является высшее образование [3].
Теоретическим и эмпирическим концептом исследования выступает понятие «интеллигенция». Это проблемный (в осмыслении и понимании) термин, характеризуемый и наделяемый учеными-гуманитариями особыми чертами: «философские мечты», «общемировая обеспокоенность», «сложная система сострадания и жертвенности», «культ народности и народного начала» и, наконец, «вера в духовное начало». На наш взгляд, интеллигенция - это социальная группа людей, осознанно отвечающих за формирование стратегии развития и актуальной политической повестки, конструктивные подходы к организации и самоорганизации общества. Пре- одоление данной группой рамок собственного ограниченного «классового» мировоззрения, ее включенность во властно-управленческие сети и, как следствие, актуализация движения от конструирования абстракций к анализу конкретной ситуации позволяют говорить о необходимости уточнения и дополнения термина «интеллигенция» на основе разработки параметрических признаков стратегической «преобразующей» субъектности (концепт «стратегическая интеллигенция»).
Целью исследования выступает изучение потенциала социального прогнозирования в государственном стратегическом управлении развитием высшей школы России; специальной задачей , раскрывающей научную новизну исследования, является диагностирование проблемы измерения и профилирование методологии воспроизводства «стратегической интеллигенции» (элиты) как «преобразующей» субъектности.
Информационной базой выступают результаты изучения управляемости регионального развития и социального группообразования, достигнутые учеными Центра социологии управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН в 2015–2020 гг., в том числе при исследовании высшего образования как ресурса управления социокультурной модернизацией регионов.
В статье использованы материалы диссертационной работы, выполненной в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» на кафедре социологии и психологии управления в 2014–2016 гг. 1
В ходе исследования применялись общие положения теории научного предвидения, методы ретроспекции (при анализе советского опыта социально-экономического прогнозирования), систематизации и обобщения информации, а также результаты работ отечественных и зарубежных ученых в области социальной философии, социологии управления, социологии образования и стратегического прогнозирования.
Обсуждение
Современная проблема степени сохранения в экономике и социальной сфере Российской Федерации плановых начал в их взаимосвязи с прогнозированием, способов и структур, методов реализации проектов и планов возникла из-за разрушения сложившейся советской системы государственного социально-экономического планирования и прогнозирования. Однако тезис об «отказе от составления социально-экономических прогнозов в пользу перехода к методам планирования и проектирования» [4], с нашей точки зрения, является недостаточно обоснованным. Роль прогнозирования сегодня возрастает в отношении таких форм государственного планирования, как заказы на производство необходимой для национальных целей продукции, планы федеральных, региональных и местных бюджетов, налоги и сборы, целевые программы и приоритетные национальные проекты. Целевые прогнозы необходимы для предвидения изменения спроса, выявления новых рыночных возможностей, структурных и функциональных сбоев, рисков инноваций, конкуренции, актуальных природных угроз и трансформации общих тенденций развития [5].
Прогнозирование применяется как инструмент первичного анализа вариантов плановоуправленческих решений. Но цели прогнозирования не ограничиваются его связью с государственным планированием, они шире и разнообразнее. Учитывая это, Е.Ю. Бик-метов и А.В. Лукьянов аргументированно утверждают, что в социальном прогнозировании важна не только поисковая, но и нормативная составляющая прогноза, то есть оценка последствий принимаемых решений в социальном проектировании. Нормативность данного вида прогнозирования выступает как подлинно управленческое видение будущего, процессов целеполагания и целедостижения [6].
Прогнозные модели и оценки должны использоваться органами власти и управления как средства индикативного планирования, позволяющего государству и обществу оказывать опосредованное регулирующее воздействие на выработку плановой стратегии организациями государственного, частного и смешанного секторов экономики, с тем чтобы указанная стратегия соответствовала единой государ- ственной стратегии. С одной стороны, индикативные государственные планы должны выступать в качестве прогнозных, представляющих собой недирективные плановые задания с набором показателей-индикаторов развития, на достижение которых ориентирована социальная политика государства; с другой - основываться на результатах макроэкономического нормативно-целевого прогнозирования, расчетах и прогнозных моделях. Это рекоменда-тельно-ориентирующие планы в том смысле, что они предоставляют возможность и мотивируют хозяйствующие субъекты держать курс на ориентиры государственного плана-прогноза, благодаря чему их экономическая и социальная деятельность органично встраивается в единую государственную стратегию и получает поддержку, например путем приоритетного предоставления государственных заказов (заданий) на оказание услуг (выполнение работ). Необходимость в таких планах-заказах возникает у федеральных и региональных органов власти и управления, в частности, при реализации федеральных целевых программ и национальных проектов.
В настоящее время в России делаются попытки возродить систему государственного стратегического управления и отдельные ее компоненты - стратегическое прогнозирование, планирование и программирование, которые уже включены в нормативно-правовую базу. Так, Федеральный закон № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» усиливает прогностическую направленность документов стратегического планирования, конституционно закрепляет необходимость создания научной базы (системы прогнозов и планов, государственных и муниципальных программ) для принятия решений и стратегирования научно-технологического, социально-экономического и пространственно-территориального развития страны. Этим законом предусмотрена оценка текущей ситуации и условий экономического и социального развития на среднесрочные и долгосрочные перспективы, включая демографическое развитие, состояние окружающей среды и природных ресурсов. В федеральном законодательстве прогнозирование определено как «деятельность участни- ков стратегического планирования по разработке научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности, а также о направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития страны, ее субъектов и муниципальных образований»2.
В связи со сказанным мы разделяем точку зрения А.И. Селиванова, состоящую в том, что стратегическое прогнозирование выступает целеобусловленным прикладным управленческим прогнозированием и компонентом системы государственного стратегического управления. В указанной системе оно многозначно связано с целеполаганием и национальными целями [7].
Стратегический прогноз предполагает активное подключение элементов целеполагания и проектирования при условии, что цель является постоянно корректируемым проектом. Создание нового вследствие ее реализации – один из важнейших процессов стратегического прогнозирования, так как позволяет управлять траекториями будущего, снижая уровень их неопределенности. Будущее становится сочетанием неуправляемого и управляемого, что предполагает взаимодействие прогноза и цели, последовательное движение от прогноза к цели и от цели к прогнозу при реализации прогнознопроектной деятельности.
Вместе с тем социально-экономические прогнозы, разрабатываемые государственными органами исполнительной власти, не являются в полной мере индикативными. Прогнозируемые показатели служат не индикаторами направлений желаемого движения вперед, а выступают объемными измерителями ожидаемого уровня развития экономики и социальной сферы. Они могут выполнять функции индикативного планирования при удачном подборе требуемого вида критериев и мотивирования субъектов в достижении намечаемых ориентиров. Возникает управленческая проблема оптимизации достижения целей в рамках стратегий, определяющих механизмы федерального, регионального и отраслевого развития.
Наглядной иллюстрацией сказанному являются критерии-показатели, использованные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) для многоэтапной кампании отнесения образовательных организаций высшего образования и их филиалов к группе вузов, имеющих признаки неэффективности3 (далее – Мониторинг). Они разработаны на основе рекомендаций Российского союза ректоров, Ассоциации федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов по осуществлению мониторинга эффективности деятельности вузов и их филиалов, в том числе имеющих специальную направленность деятельности (военную и силовую, медицинскую, сельскохозяйственную, творческую, спортивную и транспортную).
Логика и характеристика показателей отвечает ряду задач: попадание российских вузов в мировые рейтинги университетов, развитие вузовской науки, повышение зарплаты преподавателей, обеспечение оптимальных условий получения высшего образования, обучение с привлечением современного учебно-лабораторного оборудования и средств компьютерной техники.
Критические (пороговые) значения прогнозных показателей отнесения образовательных организаций к группе вузов с признаками неэффективности :
– в образовательной деятельности – средний балл Единого государственного экзамена абитуриентов, принятых на обучение в вуз по очной форме реализации основных образовательных программ бакалавриата за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы страны, с оплатой стоимости затрат на обучение физическими или юридическими лицами (60 баллов);
– в научно-исследовательской деятельности – объем НИОКР, осуществляемый в вузе, в расчете на одного научно-педагогического работника (50 тыс. руб.);
– в международной деятельности – удельный вес численности иностранных студентов вуза, обучающихся по программам подготовки бакалавров, в общем числе студентов, в приведенном контингенте (0,7%, для столичных вузов – не менее 3%);
– в финансово-экономической деятельности – доходы вуза в расчете на одного научнопедагогического работника (1100 тыс. руб.);
– по инфраструктуре (исключен в 2015 году) – общая площадь учебных и лабораторных зданий, имеющихся у вуза на праве собственности и закрепленных за ним на праве оперативного управления, в расчете на одного студента (не менее 5 кв. м, в столичных вузах – не менее 13 кв. м);
– по трудоустройству выпускников – удельный вес численности выпускников, обучавшихся в вузе по очной форме, не обращавшихся в службы занятости для содействия в трудоустройстве в течение первого года после окончания обучения, в общем числе выпускников (99,342%);
– по средней заработной плате профессорско-преподавательского состава – уровень зарплаты преподавателей от средней зарплаты работников в регионе (150%);
– по качеству профессорско-преподавательского состава – число преподавателей, имеющих ученую степень, на 100 студентов.
Деятельность образовательной организации (вуза) или филиала считается эффективной при достижении пороговых значений для четырех и более показателей.
С 2018 года на официальном портале Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования даются общие результаты, характеризующие кампанию. Так, в Мониторинге 2018 года (по данным за 2017 год) приняли участие 731 вуз и 583 филиала, в том числе государственных и муниципальных – 939, частных – 375, контингент студентов составил 4267,8 тыс. чел., в государственных и муниципальных организациях обучаются 90,3%4; в Мониторинге 2019 года (по данным за 2018 год) приняли участие 709 вузов и 555 филиалов, в том числе государственных и муниципальных – 920, частных – 344, контингент студентов составил 4174,9 тыс. чел., в государственных и муниципальных организациях обучаются 91,3%5; в Мониторинге 2020 года (по данным за 2019 год) приняли участие 689 вузов и 529 филиалов, в том числе государственных и муниципальных – 908, частных – 310, контингент студентов составил 4090,9 тыс. чел., в государственных и муниципальных организациях обучаются 92,1%6.
Анализ основных показателей по образовательным организациям высшего образования и научным организациям в 2013/2014 и 2019/2020 гг. ( таблица ) позволяет констатировать снижение числа организаций (26,8%), численности студентов (27,9%) и профессорско-преподавательского состава (28,2%). Таким образом, актуальны вопросы, касающиеся не только качества высшего образования, но и количества подготовленных выпускников. В прогностическом контексте становятся важными вопросы о структуре и численности профессорско-преподавательского состава. Заметим, указанные вопросы сохраняют острую значимость на протяжении последних 10 лет [8].
Результаты
Вопрос о корректности внедренных критериев-показателей эффективности образовательных организаций широко обсуждался в научной литературе и средствах массовой информации. В частности, Е.В. Балацким и Н.А. Екимовой было выявлено, что практически все показатели являются ресурсными и не имеют никакого отношения к качеству образования. Более того, по мнению указанных экспертов, многие из них диагностируют ситуацию с эффективностью с точностью до наоборот [9].
Обращает на себя внимание факт искусственности созданного «ускорения» эффективности развития высшего образования: прогнозные оценки, разработанные в 2014 году В.И. Савинковым и Г.А. Ключаревым, констатировали сокращение к 2018/2019 году контин-
Основные показатели по образовательным организациям высшего образования и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2013/2014 и 2019/2020 гг.1) (на начало учебного года)
|
Наименование показателя |
2013/2014 |
2019/2020 |
|
Число организаций2) |
969 |
709 |
|
Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, тыс. чел. |
5646,7 |
4068,3 |
|
Численность обучающихся в аспирантуре и докторантуре, тыс. чел.3) |
136,6 |
85,2 |
|
Приходится студентов образовательных организаций высшего образования на 10000 человек населения, чел. |
393 |
277 |
|
Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, тыс. чел.4) |
1246,5 |
1129,4 |
|
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров, тыс. чел.4) |
1291,0 |
908,6 |
|
На 10000 человек занятого населения выпущено бакалавров, специалистов, магистров, чел. |
181 |
126 |
|
Численность профессорско-преподавательского состава5), тыс. чел. |
319,3 |
229,3 |
Составлено по: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2019: стат. сб. / Росстат. M., 2019. С. 277, 284–285; Россия в цифрах. 2020: крат. стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 146, 150, 154. |
||
гента студентов до 4364,7 тыс. чел. и числа организаций до 859 [10]. Как видно, в сложившейся ситуации прогноз роста к 2025/2026 году контингента студентов до 4867,6 тыс. чел. и организаций до 924 представляется в целом недостаточно обоснованным.
Важно заметить, что сегодня многие проблемы развития высшего образования страны, связанные с конкурентоспособностью высшей школы и реальным повышением качества образования, укреплением его связей с наукой и практикой, увеличением оплаты труда профессорско-преподавательского состава, остаются нерешенными. Предпринимаемые Минобрнауки России меры часто углубляют кризис, в котором находится высшее образование, грозят потерей значительной части интеллектуального потенциала и сокращением возможностей для социальной мобильности высококвалифицированных кадров.
Мы полагаем, что для исправления сложившейся ситуации необходимо обеспечить обратную связь между показателями достижения целей развития образования и реальными механизмами стратегического управления, реализуемыми в виде конкретных действий макрорегулятора и руководства вузов. Нужна открытая общественная дискуссия по методике оценки эффективности образовательных организаций и их филиалов, дифференциации ее по типам вузов и четкого разделения критериев, зависящих от деятельности органов исполнительной власти и самих организаций. Требуется разработка конкретного алгоритма действий в отношении неэффективных вузов с приоритетом на их оздоровление, а не на ликвидацию, создание практики слияния лишь после серьезной и гласной оценки такой необходимости с проработкой организационных процедур, учитывающих интересы трудовых коллективов и потребности студентов.
С нашей точки зрения, назрела необходимость общественного обсуждения с участием руководителей регионов страны, независимых экспертов, преподавателей, ученых и общественности целей и путей реформирования высшего образования. Его итогом должна стать корректировка ряда основополагающих нормативных и правовых актов в области образования: Распоряжения Правительства Российской Федерации № 722-р от 30 апреля 2014 года «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки («дорожная карта»)», а также Постановления Правительства Российской Федерации № 583 от 5 августа 2008 года «О вве- дении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов». Требуется переход при оценке уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава от среднего арифметического к медианному показателю, а также учет не только «валового» объема зарплаты, но и ее соотношение с реальным объемом учебной нагрузки преподавателей вузов. Следует оперативно решать проблему «необходимости сокращения объема учебной нагрузки, особенно аудиторной, до предельного (нормального) ее размера в треть годового фонда рабочего времени (520 часов) при предельном объеме «горловой» нагрузки в 180 часов» [11].
Опыт развития прикладных социопрогно-стических исследований фиксирует, что стратегическое прогнозирование несет ответственность перед государственным управлением и обществом. Этот вид прогнозирования требует соединения теоретико-прикладных исследований и экспертно-аналитических оценок. Применительно к обществу фундаментальный анализ обеспечивают философия и социальногуманитарные науки (социология, политология, культурология, экономика и др.), выявляющие причинные комплексы взаимодействий и систему детерминации процессов в объектах различной природы. Эти знания являются базовыми в прогнозировании, а их внедрение в практику выступает неотъемлемым компонентом прикладного междисциплинарного стратегического прогнозирования. Но при этом обоснованно возникают вопросы, требующие осмысления: какая из социальных общностей может выступить в качестве стратегической, «преобразующей» субъектности, какова методология ее воспроизводства?
Видимо, такой общностью должна стать «стратегическая интеллигенция» (элита) , а методологическим средством ее воспроизводства – социопрогностический подход, «интегрирующий идеи и теоретические конструкты в области социально-гуманитарного знания с обоснованием решений перспективных проблем на основе современных проектных технологий» [12].
Известно, что понятие «интеллигенция» не подразумевает наличия четких институциональных границ. Оно лишь обозначает социальную группу, выделяемую по признакам обра- зованности, эрудиции и способности мыслить общими категориями. Но считается, что высокий уровень образования – это то особое качество сознания личности, которое позволяет его носителю выходить за рамки собственной классовой позиции, анализировать общественные проблемы объективно и непредвзято. Такая специфика восприятия социальной реальности побуждает интеллигенцию к эмпатическому отношению к другим социальным группам, поэтому она, обладая необходимыми социокультурными ресурсами для осуществления диагностики общественных проблем, может взять на себя роль «арбитра» в противоречиях между разными общественными классами [13] или «медиатора» в социальных и культурных отношениях [14].
Конечно, небезосновательны доводы, что по мере перехода общества к постиндустриальной стадии развития и замене авторитарных форм управления демократическими значимость интеллигенции снижается, уступая свои позиции интеллектуалам – социальным группам с высоким уровнем индивидуализации, назначение которых состоит в «проблематизации» действительности, предложении обществу разных образов настоящего и будущего. Однако интеллектуалы, организованные в небольшие группы, придерживаются разных, порой противоположных позиций и неохотно предлагают конкретные решения для тех проблем, которые сами же акцентируют [15]. В настоящее время интеллектуальные «фабрики мысли» прогнозируют стремительный рост глобального потепления, быстрое снижение рождаемости в результате усиления урбанизации и пандемических атак, падение производительности труда вследствие социальных волнений и потрясений, продолжение и углубление нищеты среди двух миллиардов беднейших граждан мира [16].
В.Е. Лепский справедливо констатирует, что российская интеллигенция, обладая мощным интеллектуальным потенциалом, способна целостно воспринимать и анализировать любые комбинации сложнейших социальных процессов и явлений. Она выполняла огромную роль в дореволюционный период, что позволяло духовно-нравственно и культурно конкурировать с Западной Европой. Советская интеллигенция смогла взять на себя роль общественного лидера в кризисной ситуации 1991 года и не допустила повторения кровопролитной гражданской войны. К сожалению, в настоящее время наша интеллигенция утратила и не может обрести единую и конструктивную позицию вследствие разделенности на патриотов и глобалистов, державников и рыночников. Она не осуществляет ключевую функцию навигатора многоцелевых процессов общественного развития страны. Ответ на вопрос, почему интеллигенция не находится на передовой социальных преобразований в российском обществе, можно найти, анализируя наиболее распространенные точки зрения на ее роль в современности, трактуемую как «транслятор западных шаблонов», глашатай «образа врага», постоянный оппозиционер к власти, «судья и пророк», «социальный диагност» [17].
Возможно, в контексте рассматриваемых проблем с учетом разрозненности и разобщенности интеллигенции корректнее говорить об элитах, которые могли бы стать стратегическими субъектами и определить основу движения по формированию «преобразующей» субъектности. Успешность выполнения «стратегической интеллигенцией» миссии «пробуждения рефлексии общественного сознания» зависит не только от осознания ее важности, но и от принятия этой миссии. Успех принципиально зависит и от осознания роли интеллигенции высшим руководством страны, от организации конкретных шагов, направленных на создание адекватных управленческих и социокультурных механизмов, в том числе механизмов нейтрализации противодействия со стороны лиц, не заинтересованных в консолидации гражданского общества и государства.
С нашей точки зрения, переход к проектированию воспроизводства интеллигенции возможен на основе интеграции целей национально-государственной, социально-экономической, научно-исследовательской и образовательной направленности. Для рационального осуществления подобных интегративных практик необходимо разработать и апробировать новые механизмы управляемости регионального развития и социального группообразования. Это может быть реализовано на основе теории и методологии социологии управления и организации через рационально-коммуникационные процедуры и внедрение методов социальной диагностики [18; 19], прогнозирования и проектирования полисубъектных (рефлексивноактивных) сред на основе цифровых и социо-технических преобразований [20].
Заключение
Сформулируем практические выводы, касающиеся приведения государственного стратегического управления в соответствие с современными требованиями (с учетом роли высшего образования в реализации стратегического подхода к управлению социокультурной модернизацией регионов).
-
I. Современная ситуация, обусловленная состоянием турбулентности, порождает цивилизационный вызов для всех государств [4]. Можно утверждать, что указанный вызов принят мировым академическим сообществом. С точки зрения зарубежных экспертов, на наших глазах происходит объединение теории и методов сетевой науки, социальной физики, коммуникаций, транспорта, географии и экономики с целью выявления и сравнения уровня развития разных стран, диагностики и оценки, каким образом это развитие влияет на принятие стратегических управленческих решений [21]. Анализ научной иностранной литературы позволяет констатировать: во-первых, в современных условиях распространен плюрализм точек зрения на средства и инструменты осуществления социальной прогностики [22]; во-вторых, не существует универсального подхода к научному предвидению общественных изменений [23]; в-третьих, возрастает роль эмпирических исследований, создающих валидную базу осуществления точных и адресных социальных прогнозов [24; 25].
Возникший цивилизационный вызов адресован, прежде всего, властным национальным элитам, и для ответа на него власть должна иметь по-настоящему действенную систему государственного управления. Иными словами, властная элита должна определить модель социально-экономического развития, способную обеспечить России достойное место в геополитическом пространстве. Но необходим поиск альтернативных подходов к предвидению будущего. Нужна новая парадигма, предполагающая проектирование и конструирование образа будущего, его воплощение в жизнь. При этом на всех стадиях механизма управления – от разработки проектов решений и контроля их выполнения до отслеживания последствий – необходимо подключать профессиональную социологию. Только тогда социологическая наука встанет вровень с факторами, определяющими качество управления, а социолог превратится в эксперта при оценке возможных результатов управленческих решений [26].
-
II. Актуальными инструментами государственного стратегического управления мы определяем прогнозное социальное проектирование , планирование и Форсайт.
Прогнозное социальное проектирование было разработано Т.М. Дридзе в 1986 году. Это специфическая социальная технология реализации предпланового научного обоснования управленческих решений. Для нее характерны: 1) признание «равноправности» объективных и субъективных факторов социального воспроизводства; 2) рассмотрение проектирования как завершающего этапа в социально-диагностической работе; 3) упор на обратную связь между диагностической и конструктивной стадиями процесса выработки решения [27].
Планирование достигло своего апогея в гипертрофированной форме в СССР. Его разновидности продолжают повсеместно использоваться как директивные (жесткие) и индикативные (мягкие) планы, ориентированные на установление будущих значений тех или иных параметров в качестве целей.
Форсайт пришел в Россию около 15 лет назад и является методологическим инструментом созидательного предвидения [28]. Для него характерны: 1) применение опроса экспертов, нацеленного на «включение» их коллективной интуиции (при определении перспективных направлений развития); 2) реализация принципа консенсуса, когда в результате предварительных переговоров достигается одобрение заинтересованных в конкретном проекте групп: населения, экспертов, представителей власти и бизнеса (при одобрении перспективных направлений).
-
III. Переход к проектированию отчасти решается путем запуска национальных проектов, в рассматриваемом случае – национального проекта «Образование», но, с нашей точки зрения, этого мало. России необходимо определить свое место в геополитической системе и
тот глобальный проект, который страна должна реализовать для обеспечения стратегически значимой геополитической позиции. Параллельно следует сформировать набор конкретных планов и проектов. С учетом реалий и традиций в области центральной власти и федерального администрирования (властноуправленческой вертикали) документы федерального значения должны стать обязательными для исполнения. Но цели при этом не должны быть догмой, для чего следует использовать процедуру индикативного планирования, когда изначальные планы могут корректироваться с учетом новых обстоятельств. Необходимо предусмотреть процедуры корректировки документов, которые делали бы изменение начальных целей явлением, требующим обоснования. В арсенале системы государственного управления должны присутствовать нормативные документы стратегического значения, принимающие форму проектов и планов на среднесрочные и долгосрочные горизонты. Их реализация равносильна наличию у страны будущего. Сегодня неотъемлемым элементом работы Правительства Российской Федерации является Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором ставятся цели (вызовы) по осуществлению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития, увеличению численности населения, повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для их проживания и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого7.
А.В. Тихонов и А.А. Мерзляков обоснованно подчеркнули, что то, как органы власти и гражданское общество справятся с национальными целями, представляет большой практический интерес, поскольку речь идет не только о политическом вмешательстве федеральных органов власти в процессы социально-экономического развития регионов на основе прорывных проектов, но и о том, в какой мере откликнутся на них различные категории на- селения и как при этом сработает механизм их социальной самоорганизации. Реализация указа потребует, прежде всего, перемен в работе всех звеньев властно-управленческой вертикали (аппарата управления), и не только путем создания так называемого «умного управления», но и через обеспечение значительной поддержки со стороны населения [29].
-
IV. Решение задачи внедрения механизма реализации планов и проектов требует обеспечения связки «отчет – ответственность». Для контроля выполнения директивного документа в нем следует задавать конкретные и хорошо верифицируемые критерии-показатели (индикаторы). Ответственность за их достижение должна быть возложена на конкретное ведомство с персональной детализацией должностных лиц, для которых заранее предусмотрены поощрения и санкции в зависимости от степени успешности решения поставленных целей. Но, перед тем как принять директивный документ плановопроектного типа, следует осуществить предварительные действия по анализу текущей ситуации и перспектив. Для этого, с нашей точки зрения, можно применять инструмент Форсайта, увязывающего алгоритмы различных методов прогнозирования (методы Дельфи, написание сценариев и др.). Только после проведения социопрогностических исследований можно переходить к планированию мероприятий; в противном случае велика вероятность осуществления «насилия» над будущим, что может выразиться в ошибках и последующих проблемах реализации задуманного.
Мы солидарны с точкой зрения Е.В. Балац-кого, состоящей в том, что следует переходить к стратегии доминирования качества над количеством. Причем такая доктрина качества должна явно превалировать над количественными показателями. Лишь рост качества жизни и всего, что создает человек, может оправдать количественную стабильность экономики и социальной сферы, лишь стремление к развитию позволит освободить творческий потенциал людей в новых условиях [4].
Выводы, относящиеся к переформатированию высшей школы России:
-
1) Высшее образование является институционально-регулятивным ресурсом обеспечения государственной стратегии социокультур-
- ной модернизации регионов, а высококвалифицированное, образованное население – «мягкой» силой и центростремительным фактором достижения высокого уровня солидарности общества в решении национальных задач.
-
2) Судьба экономики, народа и страны зависит от качества государственного стратегического управления, находящегося, как известно, в руках правящей элиты. Здесь правомерно задать вопрос, насколько реалистичны сформулированные изменения в системе управления? Наш ответ: социальная группа населения с высшим образованием способна оказать влияние на рост гражданской субъектности и уровень поддержки действий властно-управленческой вертикали. Она может запустить механизм са-модостраивания (интеллектуальной «сборки») и взять на себя интегрирующую функцию выработки стратегического вектора социокультурной модернизации. Вместе с тем модернизационные процессы, происходящие в отечественном образовании, должны побуждать государство и гражданское общество к упорядочиванию институциональных изменений.
-
3) Крайне необходимо обеспечить привлечение гражданского общества к формированию запросов на результаты научно-исследовательской деятельности, а также развивать сетевые формы организации научно-технических и инновационных практик. Для «мягкого» государственного регулирования процессов социокультурной модернизации страны и ее регионов может быть достаточно эффективным двуединое регулирование: федеральными органами власти и управления – «сверху», региональными и местными – «снизу».
Важно подчеркнуть, что в настоящее время потенциал социального прогнозирования в государственном стратегическом управлении развитием высшей школы России явно недооценен как властью, так и наукой. Реализовать его необходимо в сжатые сроки, поскольку пассивность в сфере политической и социальной активности, а также отчуждение народа от власти и управления приводят к переключению внимания людей на личные и семейные проблемы в ущерб социальным и политическим [30]. Вкупе с преобладанием зависимой экспортносырьевой модели организации отечественной экономики, воспроизводством архаичного тех- нологического уклада пассивность и отчуждение становятся тем макродеструктивным фактором, который не позволяет в должной мере осуществиться модернизационным планам и национальным проектам, фактически угрожает уравниванию России с государствами «третьего мира», где консервация вековой отсталости стала институциональной нормой.
Список литературы Социальное прогнозирование в стратегическом управлении развитием высшей школы России
- Прогнозирование развития и мониторинг состояния высшего и среднего профессионального образования (теория, методология, практика) / под ред. А.Я. Савельева. М.: НИИВО, 1999. 192 с.
- Прогнозирование будущего: новая парадигма / под ред. Г.Г. Фетисова, В.М. Бондаренко. М.: Экономика, 2008. 283 с.
- Леньков Р.В. Проблема целеполагания социокультурной модернизации российских регионов: закономерности, регуляторы, субъектность // Научный результат. Социология и управление. 2020. Т. 6. № 4. С. 42-54. DOI: 10.18413/2408-9338-2020-6-4-0-3
- Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Инструменты государственного управления: прогнозирование vs проектирование // Управленец. 2021. Т. 12. № 1. С. 18-31. DOI: 10.29141/2218-5003-2021-12-1-2
- Sanders N. Forecasting Fundamentals. New YOrk: Business Expert Press, 2016. 122 p.
- Бикметов Е.Ю., Лукьянов А.В. Нормативная составляющая целеполагания и целедостижения в социальном проектировании // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2021. № 1. С. 59-68. DOI: 10.15593/2224-9354/2021.1.5
- Селиванов А.И. Методологические платформы и методы стратегического прогнозирования: мировой опыт и российский потенциал // Власть. 2021. Т. 29. № 1. С. 280-290.
- Леньков Р.В. Характеристика компонентов сферы высшего образования России: социолого-управленческий анализ // Вестник Университета (ГУУ). 2012. № 20. С. 122-129.
- Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Академическая результативность высших экономических школ России // Terra Economicus. 2014. Т. 12. № 1. С. 13-27.
- Савинков В.И., Ключарев Г.А. Анализ и прогноз численности студентов и преподавательского персонала учреждений профессионального образования. М.: ЦСПиМ, 2014. 96 с.
- Эрштейн Л.Б. Чрезмерная нагрузка преподавателей вузов как фактор разрушения высшего образования в России // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2021. № 2. С. 75-87. DOI: 10.15593/2224-9354/2021.2.6
- Леньков Р.В. Социальное проектирование как предмет социолого-управленческого дискурса // Научный результат. Социология и управление. 2018. Т. 4. № 4. С. 101-112. DOI: 10.18413/2408-93382018-4-4-0-9
- Маннгейм К. Избранное: Социология культуры. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 501 с.
- Давыдов А.П. Методологическая «середина» как инструмент изучения социальной реальности // Россия реформирующаяся. 2020. № 18. С. 529-564. DOI: 10.19181/ezheg.2020.23529
- Черныш М.Ф. Интеллигенция и средний класс // Интеллигенция: многообразие стилей и образов жизни: сб. научн. статей. М.: РГГУ, 2020. С. 39-45.
- Randers J. 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. Vermont: Chelsea Green Publishing, 2012. 304 p.
- Лепский В.Е. Становление стратегических субъектов: постановка проблемы // Рефлексивные процессы и управление. 2002. Т. 2. № 1. С. 5-23.
- Тихонов А.В. Проблемы социального группообразования в регионах РФ с разным уровнем социокультурной модернизации: адекватные ответы на стратегические вызовы // Россия реформирующаяся. 2020. № 18. С. 160-175. DOI: 10.19181/ezheg.2020.7160
- Щербина В.В. Рационализирующие диагностические управленческие социальные технологии. М.: Новый хронограф, 2018. 416 с.
- Лепский В.Е. Общественное участие в саморазвивающихся полисубъектных средах. М.: Когито-Центр, 2019. 141 с.
- Börner K., Rouse WB., Trunfio P., Stanley H.E. Forecasting innovations in science, technology and education. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, vol. 115, no. 50, pp. 12573-12581.
- Bhimani H., Mention A.-L., Barlatier P.-J. Social media and innovation: A systematic literature review and future research directions. Technological Forecasting & Social Change. URL: https://doi.org/10.1016/j. techfore.2018.10.007 (дата обращения 20.10.2021).
- Iden J., Methlie L. B., Christensen G. E. The nature of strategic foresight research: A systematic literature review and future research directions. Technological Forecasting & Social Change, 2017, no. 116, pp. 87—97.
- Petticrew M., Roberts H. How to appraise the studies: an introduction to assessing study quality. In: Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. 2006. Pp. 125—163.
- Sharma P. Forecasting: Roles, Steps and Techniques. Management Function. URL: https://www.yourarticlelibrary. com/management/forecasting/forecasting-roles-steps-and-techniques-management-function/70032 (дата обращения 20.10.2021).
- Горшков М. К. Общество — социология — власть: к вопросу о взаимодействии // Социологические исследования. 2012. № 7 (339). С. 23-28.
- Прогнозное социальное проектирование: Теоретико-методологические и методические проблемы / под ред. Т.М. Дридзе. М.: Наука, 1994. 302 с.
- Калюжнова Н.Я., Третьяк В.П. Форсайт как методологический инструмент созидательного предвидения // Наука. Инновации. Образование. 2007. № 51. С. 15-30.
- Тихонов А.В., Мерзляков А.А. Управляемость процессов социального группообразования в регионах с разным уровнем социокультурной модернизации // Научный результат. Социология и управление. 2019. Т. 5. № 4. С. 176-183. DOI: 10.18413/2408-9338-2019-5-4-0-15
- Пацула А.В., Щелоков Д.В. Специфика управления институциональными трансформациями в России // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 5-1 (119). С. 133-138.