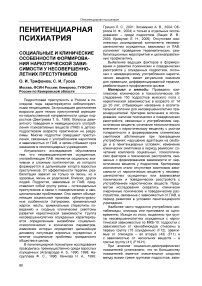Социальные и клинические особенности формирования наркотической зависимости у несовершеннолетних преступников
Автор: Трифонов О.И., Гусев С.И.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Пенитенциарная психиатрия
Статья в выпуске: 3 (46), 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295204
IDR: 14295204
Текст статьи Социальные и клинические особенности формирования наркотической зависимости у несовершеннолетних преступников
Москва, ФСИН России; Кемерово, ГУФСИН России по Кемеровской области
Подростковая преступность в России в последние годы характеризуется неблагоприятными тенденциями. За прошедшее десятилетие возросла доля тяжких преступлений агрессивно-насильственной направленности среди подростков (Дмитриева Т. Б., 1999). Вопросы девиантного поведения и немедицинского употребления психоактивных веществ (ПАВ) в детско-подростковом возрасте практически не разделимы. Многие подростки совершают преступления, связанные с употреблением наркотиков и зависимостью от ПАВ, и затем отбывают срок наказания в пенитенциарных учреждениях.
Актуальность исследования обусловлена тем, что несовершеннолетние осужденные, употребляющие ПАВ, являются социально значимым и сложным контингентом, из которого формируется в дальнейшем когорта взрослых преступников. От эффективности терапии, реабилитации зависит не только их жизнь, но и здоровье, жизнь их родителей, близких, других людей. Подростки, зависимые от ПАВ, представляют собой группу риска – потенциальных преступников в связи с поведенческими и эмоциональными проблемами. Они имеют объединяющие социальные признаки, субкультуральные особенности (татуировки, криминальный жаргон, жесты, криминальные стереотипы поведения) и сходные клинические симптомы развития наркотической зависимости. Группа несовершеннолетних осужденных характеризуется определённым ансамблем социальнопсихологических и клинических параметров, изменение которых определяет дальнейшую динамику популяции взрослых осужденных и многие социальные проблемы гражданского общества в целом.
В пенитенциарной психиатрии исследования проводились преимущественно среди взрослых осужденных (Агаларзаде А. З., 1990, 1998; На-сруллаев Ф. С., 1996; Качнова Н. А., 1999;
Гришко Л. С., 2001; Зосименко А. В., 2004; Об-росов И. Ф., 2004) и только в отдельных исследованиях – среди подростков (Лацис И. В., 2003; Кривулин Е. Н., 2006). Отсутствие комплексных исследований контингента несовершеннолетних осужденных, зависимых от ПАВ, усложняет проведение терапевтических, реабилитационных мероприятий и целенаправленную профилактику.
Выявление ведущих факторов в формировании и развитии психических и поведенческих расстройств у осужденных подростков, склонных к немедицинскому употреблению наркотических веществ, имеет актуальное значение для превенции, дифференцированной терапии, реабилитации и профилактики срывов.
Материал и методы . Проведено комплексное клиническое и психологическое обследование 150 подростков мужского пола с наркотической зависимостью в возрасте от 14 до 20 лет, отбывающих наказание в воспитательной колонии для несовершеннолетних правонарушителей. Критерии включения в исследование: наличие психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ; сочетание патологического влечения к наркотическому веществу с ростом толерантности и формированием клинических симптомов абстиненции при прекращении употребления; нарушение адаптации на свободе и в пенитенциарных условиях; изменение клинических симптомов в период ремиссии; сочетание комплекса социальных, психологических факторов и психических расстройств, связанных с формированием зависимости от наркотических веществ у подростков. Критериями исключения стало отсутствие симптомов зависимости от наркотических веществ у несовершеннолетних осужденных или взаимосвязи психических и поведенческих расстройств с употреблением наркотических веществ. Предметом исследования оказались клинически очерченные психические и поведенческие расстройства, связанные с зависимостью от ПАВ, в период ремиссии в условиях пенитенциарного учреждения.
Наиболее часто подростки употребляли каннабиноиды, опиоиды или принимали их одновременно. Исходя из этого, выделены три группы несовершеннолетних осужденных с наркотической зависимостью по МКБ-10: подростки с зависимостью от каннабиноидов отнесены в первую группу (75 осужденных) (F12), зависимые от опиоидов – во вторую (43) (F11) и с зависимостью от нескольких веществ – в третью группу (41) (F19-H).
При анализе социально-демографических показателей установлено, что по большинству показателей имеется значительное сходство между всеми тремя группами подростков, зави- симых от наркотиков. И лишь по отдельным показателям получены достоверные различия.
Большинство исследователей (Дмитриева Т. Б. и др.) считают, что условия окружения и воспитания играют значительную роль в генезе нарушений поведения у детей и подростков. Это подтверждается не только высокой частотой наркологических заболеваний, аффективных и психопатических нарушений среди родственников, но и тем, что семьи детей и подростков с девиантным поведением чаще всего дезорганизованы, дисфункциональны, взаимоотношения между членами семьи нарушены.
По возрасту во всех трех группах преобладают подростки 17 — 18 лет, что связано с возрастающей криминальной активностью к этому возрасту, совершением не одного преступления и, как следствие, судимостью. До 17 лет в места лишения свободы попадают подростки, как правило, только за тяжкие или повторные преступления. Обычно от 1 до 3 судимостей бывает условно. Более старшими по возрасту оказались подростки во второй группе (средний возраст 17,3 года).
По статьям УК РФ установлено распределение преступлений несовершеннолетних правонарушителей. Насильственные преступления составили 71 % (статьи 102, 105 – убийство, 111 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 131 и 132 – действия сексуального характера, 161 – грабёж, 162 – разбой, 166 – угон автотранспорта). Корыстные преступления – 25,3 % (статья 158 – кража). Незаконное хранение наркотических средств – 4,7 % (статья 228). Подростки, зависимые от каннабиноидов, в 41,3 % случаев совершили насильственные преступления, от опиатов – в 32,4 % и полинаркомании – в 24,4 %. Подавляющее большинство преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Для подростков из первой группы, имеющих клинические симптомы зависимости от каннабиноидов, употребление каннабиноидов на определенном этапе, по-видимому, уже не дает желаемого эффекта. Тогда начинается употребление более доступных дешевых крепких спиртных напитков для достижения выраженных форм опьянения. В этот период совершаются насильственные преступления.
Значительное число насильственных преступлений во всех трех группах (в том числе среди подростков с гашишной наркоманией) объясняется употреблением наркотиков, алкоголя и совершением преступления в этом состоянии. Более 85 % подростков совершили насильственные преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сложность квалификации состояния неалкогольного опьянения связана с редким назначением и проведением экспертизы на наркотиче- ское опьянение. Как правило, в материалах личных дел, приговорах суда указывается только состояние алкогольного опьянения, тогда как при клиническом обследовании подростков выясняется, что они употребляли не алкоголь, а наркотики или несколько веществ одновременно.
Отмечается преобладание в группе подростков с полинаркоманией грабежей (43,9 %), что связано с увеличением потребления наркотиков, ростом толерантности и необходимостью больших средств для приобретения наркотиков. Прослеживается рост преступлений, связанных именно с наркотиками от первой группы к третьей (до 7,3 %).
61,3 % подростков ранее уже привлекались к уголовной ответственности, 38,7 % – привлекались впервые. Преступления, связанные с наркотиками (продажа, хранение), составили 4,7 %, опосредованно связанные с наркотиками (добывание средств на очередную дозу или в состоянии опьянения) – 33,3 %. Преобладал срок наказания от 2 до 4 лет (52,9 % у зависимых от опиоидов). Более длительные сроки наказания отмечены в третьей группе (29,3 %).
От 52 до 73 % несовершеннолетних осужденных воспитывались в неполных семьях, от 8 до 12 % – в интернатах. У родителей в 61,3 % случаев преобладали конфликтные взаимоотношения. Среди типов воспитания преобладала гипоопека во всех трех группах. Более высокие данные в первой группе (50,7 %) подтверждают раннее начало потребления ПАВ именно с каннабиноидов, что связано с гипоопекой подростков. В первой группе преобладал возбудимый тип поведения в детстве (46,6 %), группе полинаркоманий – тормозимый (43,0 %), что, возможно, и приводило к более раннему началу приема наркотиков под влиянием уже употребляющих наркотики и дальнейшему переходу на сочетанное употребление. В премор-биде среди ведущих черт личности преобладали конформность (70 %) и подчиняемость (21,3 %). Поведенческие реакции определяются наличием в окружении асоциальных и ранее судимых личностей. Частое и охотное общение с судимыми наблюдалось в 58,7 %, поддержание знакомства – в 18,0 %, активное избегание – в 2,0 %. Результаты исследования показывают корреляцию между девиантными формами поведения и наличием друзей с асоциальными формами поведения.
В первой группе на начальных этапах употребления каннабиноидов характерны групповые формы приема наркотиков до 3—6 месяцев, в дальнейшем происходил переход на периодическое употребление в одиночку или присоединение потребления алкоголя. Отмечаются неблагоприятная почва в виде неполной семьи и отсутствие социально приемлемых методов воспитания с частой алкоголизацией родителей. Для несовершеннолетних осужденных второй группы характерно начало употребления наркотических веществ в возрасте до 14 лет (78,0 %) с кратковременным периодом приема каннабиноидов до 1 месяца или разовые эксцессы. В 34,0 % случаев отмечено начало употребления сразу опиоидов внутривенно. Для подростков третьей группы в 82,0 % случаев приему наркотиков предшествовал период потребления органических растворителей и алкоголя, затем в возрасте до 12 лет (35,0 %) начало сочетанного употребления наркотиков (каннабиноиды и опиоиды).
Среди подростков всех трех групп преобладает совершение насильственных преступлений. В первой группе тяжесть совершенных преступлений связана с частым переходом к периодическому употреблению алкоголя и совершению преступлений в состоянии опьянения. Достоверно чаще в третьей группе преобладали грабежи и разбои, преступления совершались в группе. При этом потребители наркотиков играли роль лидеров или наиболее активных участников. Среди подростков второй и третьей групп преобладали лица, имевшие ранее судимости.
Наиболее важной задачей в терапии зависимости от алкоголя и наркотиков является формирование стойкой длительной ремиссии с дальнейшей социальной реабилитацией. Изучению причин наступления ремиссий, их продолжительности и причин рецидивов при алкоголизме и наркоманиях посвящены многочисленные работы отечественных ученых (Портнов А. А., 1962; Авербах Я. К., 1964; Стрель-чук И. В., 1966; Иванец Н. Н., Личко А. Е., Би-тенский В. С., 1991; Пятницкая И. Н., 1994). Нами выделены этапы динамики психопатологических расстройств в период ремиссии зависимости от наркотиков у подростков, совершивших преступления.
Первый этап - острые абстинентные расстройства (абстинентный синдром). При аресте прекращается прием наркотических веществ и отсутствует возможность их приобретения. В период до трех суток развивается клиника абстинентного синдрома. Этот период отличается остротой развития клинических симптомов и быстрой динамикой, наиболее тяжело переживается подростками и связан как с психическими, так и соматическими симптомами. Для подростков, зависимых от каннабиноидов, он протекает более легко и кратковременно, в клинической картине преобладают беспокойство, вялость, анорексия, вегетативная лабильность. Продолжительность в большинстве случаев до 4 дней. У подростков, зависимых от опиатов, чаще отмечены боли в суставах, мышцах, животе, мышечные спазмы и беспокойство. Дли- тельность течения достигает 6 дней и более. В третьей группе подростков с диагнозом полинаркомании все эти симптомы имеют тенденцию к затяжному течению.
Второй этап - постабстинентные расстройства (постабстинентный синдром). Он характеризуется сглаживанием острых симптомов абстиненции и преобладанием психопатологических симптомов. В клинике преобладает психопатоподобная симптоматика с быстрой исто-щаемостью аффективных вспышек и преобладанием астенической и ипохондрической симптоматики. Аффективная лабильность и пониженное настроение не достигают уровня депрессии. Сложность динамики связана с наличием психогенных факторов: влиянием судебно-следственной ситуации, необходимостью адаптации к нормам криминальной субкультуры. Длительность течения до полутора месяцев.
Третий этап - отдаленный период ремиссии наркотической зависимости (длительность 1—2 года с волнообразным течением). Отличается последовательной клинической динамикой симптомов и длительным волнообразным течением. В первой группе достоверно чаще преобладала астеноипохондрическая симптоматика в сочетании с вялостью, апатией, беспокойством и слабо выраженными периодами обострения сроком до 6 месяцев. У несовершеннолетних зависимых от каннабиноидов (первая группа) отдаленный этап протекал более мягко с редкими обострениями. Они легче адаптировались к условиям колонии, режиму содержания. У зависимых от опиатов отмечалась выраженность психопатоподобной симптоматики с периодами аффективных колебаний, нарушениями сна. Обострение патологического влечения маскировалось раздражительностью, эксплозивными вспышками, шантажно-демонстративным поведением с требованием анальгетиков, снотворных и транквилизаторов. После купирования психопатоподобной симптоматики у несовершеннолетних второй группы чаще наблюдалось ухудшение состояния с углублением психических расстройств в виде обострения неврозоподобной симптоматики с обсессивным влечением к наркотикам, нарушениями сна и аффективными колебаниями, соматовегетативными расстройствами. Продолжительность таких обострений составляла 1—2 месяца.
При полинаркотической зависимости (третья группа) отмечались стойкие и затяжные психопатоподобные состояния с дисфорическим фоном настроения, тревогой, бессонницей и выраженной поисковой активностью наркотиков или их заменителей. Продолжительность от нескольких дней до 1—2 месяцев. Сохраняющиеся психопатологические симптомы затрудняли социальную адаптацию подростков и тре- бовали постоянного внимания со стороны медицинского персонала. Выраженность симптомов анозогнозии затрудняла своевременное обращение за медицинской помощью и способствовала затяжному течению. Клиническая картина усложнялась аффективными вспышками, выраженными нарушениями сна и периодическим обострением патологического влечения к наркотикам, которое маскировалось раздражительностью, обострением психопатоподобной симптоматики, нарушениями поведения и шантажно-демонстративными угрозами.
У подростков второй группы затяжное состояние обострения отмечалось в 37,0 %, третьей группы – в 59 %. Клиническая картина характеризовалась облигатными и факультативными признаками с длительным волнообразным течением продолжительностью до 3 месяцев. В единичных случаях отмечено дальнейшее развитие ипохондрических реакций с волнообразным течением и периодическим ухудшением состояния. У 4,9 % подростков третьей группы в отдаленном периоде ремиссии отмечались депрессивные эпизоды средней степени с пониженным настроением, утратой интересов и удовольствия, сниженной активностью, плохим аппетитом, нарушениями сна, идеями виновности. Суицидальные и аутоагрессивные намерения у подростков на отдаленном этапе ремиссии отсутствовали. При добровольном согласии на лечение и активной терапии отмечалась тенденция к благоприятному течению состояний обострения в течение 7—15 дней и отсутствовали случаи перехода к затяжному течению.
Анализ клинико-психопатологических расстройств на различных этапах наркотической зависимости выявил ряд особенностей клинического течения в зависимости от различных факторов. В отдельных случаях состояния клинического обострения приобретают рецидивирующее течение на отдаленных этапах. Психические расстройства преимущественно представлены кратковременными астеническими и психопатоподобными состояниями.
Клинический анализ психических расстройств, связанных с наркотической зависимостью, динамикой формирования психических расстройств в зависимости от социальных, психологических факторов, психотравмирующих причин, а также от личностных, преморбидных особенностей, позволил выделить этапы клинической динамики психопатологических симптомов в отдаленном периоде наркотической зависимости у несовершеннолетних осужденных. Диагностика симптомов наркотической зависимости основана на критериях МКБ-10. В то же время одной из проблем является то, что сейчас практически не проводится судебно- наркологическая экспертиза, что усложняет работу с такими пациентами.
На начальном этапе (абстинентный синдром) доминирует первичное патологическое влечение на фоне полиморфной психопатоподобной симптоматики. На втором этапе (постабстинентный синдром) характерно снижение остроты проявлений патологического влечения и появления аффективных нарушений, сглаживание психопатоподобной симптоматики. В дальнейшем наблюдается этап отдаленных психических расстройств с затяжным волнообразным течением астенической и ипохондрической симптоматики.
Оценка ведущих факторов социальной дезадаптации, нарушений микросоциальной адаптации, межличностных конфликтов, девиаций поведения, аффективных расстройств, формирующихся после ареста и прекращения употребления наркотиков, позволяет осуществить практический выбор сочетания медицинских, психологических и воспитательных мероприятий. Все это способствует ранней профилактике психических и поведенческих расстройств в период ремиссии с адекватной коррекцией психопатологических симптомов. Своевременная диагностика и терапия способствуют качественному оказанию медицинской помощи, превенции обострений, формированию адаптационных ресурсов, осознанию проблем, связанных с употреблением наркотиков, созданию мотиваций на терапию и становлению стойкой ремиссии.
Выводы . В структуре психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ, у подростков, находящихся в пенитенциарных учреждениях, преобладает патология, связанная с последствиями употребления каннабиноидов, опиоидов и их сочетание. К предиспонирующим факторам формирования особенностей клинической динамики зависимости от ПАВ у несовершеннолетних осужденных отнесены массивность сочетания неблагоприятных социальнопсихологических факторов: неполная семья (72,0 %), воспитание с безнадзорностью или по типу гипоопеки (44,7 %), алкоголизация родителей, что способствует раннему началу потребления ПАВ и безремиссионному течению. Для подростков, употребляющих каннабиноиды, характерен переход на прием опиоидов или алкоголя, что способствует прогредиентности течения наркотической зависимости и совершению тяжких насильственных преступлений. В клинической картине длительной ремиссии наркотической зависимости у несовершеннолетних осужденных выделены три этапа клинической динамики психопатологических симптомов: острый, постабстинентный и отдаленный.
ОЦЕНКА РОЛИ ФАКТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Г. М. Усов
Омск, Государственная медицинская академия
Р ез ю м е : В статье обосновывается актуальность комплексного подхода к изучению опасности психически больных. Обсуждается основной комплекс факторов, участвующих в ее формировании. С помощью факторного анализа установлена роль причин, приводящих к совершению общественно опасных деяний в двух группах больных шизофренией: с преобладанием продуктивных и негативных расстройств.
ASSESSMENT OF FACTORS FORMING ANTISOCIAL BEHAVIOR OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA. G. M. Usov. A b s t r a c t : In article the basic complex of factors forming antisocial behavior of patients with schizophrenia is discussed. Two groups of patients are studied: with positive and negative symptoms. The factor analysis is used for estimating the role of different causes determining the social dangerous acts.
Вопросы установления исходных причин общественно опасных действий (ООД) психически больных остаются актуальными в судебной психиатрии, поскольку психопатологические феномены не всегда являются прямой причиной совершения правонарушений [1, 2]. Конкретный модус противоправного поведения реализуется при совместном взаимодействии его детерминирующих факторов: «синдром», «личность» и «ситуация» [3]. Несмотря на прогресс в исследовании данной проблемы, достигнутый с помощью описательных методов, большинство авторов указывают на необходимость продолжения научного поиска в данном направлении [6, 7, 8]. На сегодня одним из перспективных подходов является использование статистических методов для количественной оценки вклада известных факторов в генез противоправного поведения. Обязательным условием их применения является предварительная дифференциация изучаемого контингента [4, 5].
Нами была предпринята попытка выделения факторов, участвующих в реализации ООД больных шизофренией. Для этого были сформированы две группы пациентов из числа лиц, находившихся на принудительном лечении. В первую группу вошли 112 больных, совершивших ООД в состоянии психоза (по продуктивнопсихотическому механизму), а во вторую – 109 человек, чье противоправное поведение реализовалось на фоне негативной симптоматики (негативно-личностный механизм). В качестве обобщающего статистического метода использован факторный анализ, который применялся дифференцированно, т. е. отдельно для каждой из двух групп обследованных.
Первичным материалом для обработки послужили 19 переменных, по которым на предварительном этапе исследования были установлены достоверные различия между выборками с помощью t критерия метода хи-квадрат. В клиническом аспекте психическое расстройство у пациентов, совершивших ООД по продуктивно-психотическому механизму, проявлялось галлюцинаторно-бредовыми и аффективно-бредовыми состояниями, а у лиц с негативно-личностным механизмом – психопатоподобным синдромом и шизофреническим дефектом. У больных первой группы давность заболевания была достоверно меньшей (p<0,05), а случаи несоблюдения режима терапии встречались реже (p<0,01).
Для пациентов первой группы типично начало заболевания на фоне сохранной личностной структуры, в то время как у лиц, составивших вторую группу, эндогенное расстройство в большинстве случаев формировалось на фоне личностных аномалий, имеющих асоциальную направленность (p<0,001). Вследствие этого больные с негативно-личностными ООД чаще совершали девиантные и делинквентные поступки в преморбидном периоде (p<0,001), среди них чаще были распространены сопутствующие органические поражения головного мозга (p<0,05) и злоупотребление ПАВ (p<0,001). Очевидно, в силу своих личностных особенностей они имели значительно более низкий уровень образования (p<0,05).
В социальном аспекте для пациентов второй группы были типичны более низкий трудовой статус и материальное положение (p<0,01), большая встречаемость проживания вне собственной семьи (p<0,05) и негативные отношения с родственниками (p<0,01). Лица с негативноличностным механизмом ООД чаще вовлекались в противоправную активность представителями антисоциального микросоциума (p<0,001).
С учетом концепции Ф. В. Кондратьева [2, 3] мы распределили все названные переменные по трем подгруппам, которые получили соответствующие названия. Подгруппа «синдром» включала в себя давность заболевания, тяжесть психического расстройства (с оценкой выраженности продуктивной и негативной симптоматики, тяжести расстройств поведения и аффективных нарушений), регулярность и адекватность поддерживающей терапии. Следующая совокупность – «личность» – объединила такие признаки, как уровень образования, наличие асоциальных установок в преморбиде; частоту совершения девиантных и делинквентных поступков до болезни; наличие сопутствующего органического поражения головного мозга и злоупотребления ПАВ, кратность совершения ООД на протяжении жизни. Все они в большей или меньшей степени были связаны с личностью больного. В последнюю подгруппу – «ситуация» – вошли семейный статус, тип отношений пациента с близкими людьми, материальное положение, наличие постоянной работы и места проживания, положительное либо отрицательное влияние микросоциального окружения.
Процедура статистической обработки проводилась раздельно для двух групп по одинаковым совокупностям переменных, приведенным выше. Анализ данных методом главных компонент с применением вращения факторных нагрузок варимакс нормализованный (varimax normalized) позволил выделить два фактора, объединяющих наиболее значимые переменные. В соответствии с теорией факторного анализа первый фактор являлся наиболее значимым, так как он сильнее коррелировал с переменными, чем остальные. Это происходило потому, что факторы выделялись последовательно и содержали все меньшую и меньшую часть общей дисперсии. С точки зрения практического применения полученных результатов это означало, что те переменные, которые были объединены в первую очередь, в большей степени влияли на формирование противоправного поведения психически больных и непосредственную реализацию ими ООД.
Таблица
Значения факторных нагрузок для переменных, включенных в выделенные факторы
|
Первая группа |
Вторая группа |
||
|
Фактор 1 |
|||
|
Давность заболевания |
0,883250 |
Давность заболевания |
0,806272 |
|
Тяжесть продуктивной симптоматики |
0,844727 |
Преморбидные особенности лично сти |
0,796480 |
|
Злоупотребление ПАВ |
-0,760925 |
Девиантный пре-морбид |
0,829757 |
|
Делинквентный преморбид |
0,894180 |
||
|
Злоупотребление ПАВ |
0,966063 |
||
|
Органическое поражение ЦНС |
0,966063 |
||
|
Фактор 2 |
|||
|
Девиантный пре-морбид |
0,862348 |
Отношения в семье |
0,819371 |
|
Делинквентный преморбид |
0,968544 |
Микросоциальное окружение |
0,893408 |
Кратность ООД 0,968544
В результате факторного анализа было установлено, что для пациентов с продуктивнопсихотическим механизмом ООД приоритетное значение в противоправной активности имели клинические проявления заболевания. Первый фактор характеризовался высокими нагрузками на три переменных, при этом с двумя из них
(давность заболевания, тяжесть продуктивной симптоматики) корреляционная связь имела положительную направленность, а еще с одной (злоупотребление ПАВ) – отрицательную.
В формировании второго фактора участвовали исключительно переменные из подгруппы «личность» (девиантные и делинквентные поступки в преморбиде и количество совершенных ООД). Все они являлись отражением антисоциальных тенденций, обусловленных не фактом наличия психического расстройства, а пре-морбидной личностной предиспозицией. Однако вклад второго фактора в генез этого явления был гораздо меньшим, чем у обследованных, составивших другую группу.
Непосредственной причиной ООД у лиц первой группы являлись психопатологические феномены. При этом состояние опьянения практически не принимало участия в реализации агрессии таких больных, поскольку с позиций факторного анализа влияния этих состояний на вероятность продуктивно-психотических ООД однозначно отсутствовало вследствие отрицательной направленности корреляции. Однако необходимым условием для их осуществления являлось наличие личностных установок, формирование которых происходило до манифестации психического расстройства. Именно в сочетании с клинической и персонологической составляющей срабатывали триггеры агрессивного поведения, определяющие риск совершения ООД, его направленность и степень тяжести. Полученные результаты позволили объяснить, почему при одинаковом содержании галлюцинаторно-бредовых переживаний одни пациенты совершают правонарушения, а другие сохраняют контроль над своим поведением, несмотря на значительную остроту и аффективную заряженность психопатологической симптоматики.
Для пациентов с негативно-личностным механизмом ООД вклад изучаемых переменных в генез противоправного поведения был принципиально другим. В формировании первого фактора максимальная роль принадлежала пяти признакам из подгруппы «личность». Положительная направленность корреляционной связи, характеризующей эти переменные, свидетельствовала о наличии прямой зависимости между ними и вероятностью совершения ООД. В первом факторе учитывалась роль давности заболевания. Содержание второго фактора также соответствовало представлениям об особенностях общественно опасного поведения этих больных. Он характеризовался нагрузкой на две переменные из подгруппы «ситуация». Их наличие облегчало реализацию спаянных с личностью антиобщественных тенденций в благоприятных условиях.
Первостепенная роль в генезе противоправной активности пациентов с негативноличностным механизмом ООД принадлежала стойким антисоциальным личностным установкам, реализация которых облегчалась при нарастании проявлений психического расстройства, способствующих пренебрежению социальными нормами. При отсутствии корригирующих влияний со стороны микросоциума совокупность этих условий достигала критического уровня и приводила к совершению ООД. Данные факторы у лиц с негативно-личностным механизмом находились в динамических взаимоотношениях, т. е. преобладание личностной составляющей лежало в основе т. н. инициативных деликтов, в то время как доминирование фактора «ситуация» обусловливало совершение ситуационно спровоцированных действий. Оценка достоверности полученных данных подтвердила высокую степень надежности результатов исследования, поскольку доля общей дисперсии, которую «объясняли» выделенные факторы превышала 60 % (64,45 и 69,32 % для первой и второй групп).
Общественно опасное поведение больных шизофренией формируется в динамическом взаимодействии целого ряда факторов. В реализации продуктивно-психотических ООД ведущая роль принадлежит клиническим проявлениям заболевания, выступающим в совокуп- ности с антисоциальными личностными установками. При совершении негативно личностных деликтов, помимо клинических проявлений и закономерностей течения заболевания, большое значение имело наличие сопутствующей алкогольной или наркотической аддикции и органического поражения головного мозга. Указанное негативное влияние дополнялось отсутствием поддержки со стороны родственников и влиянием асоциальной микрогруппы. Эти факторы накладывались на имеющиеся с преморбидного периода личностные девиации, а совокупность всех характеристик приводила к закреплению асоциальных паттернов поведения и формированию «порочного круга».