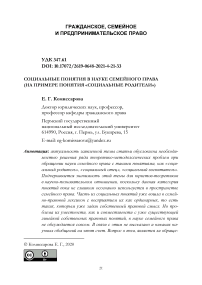Социальные понятия в науке семейного права (на примере понятия "социальные родители")
Автор: Комиссарова Е.Г.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Актуальность заявленной темы статьи обусловлена необходимостью решения ряда теоретико-методологических проблем при обращении науки семейного права с такими понятиями, как «социальный родитель», «социальный отец», «социальный воспитатель». Подчеркивается значимость этой темы для юристов-теоретиков в научно-познавательном отношении, поскольку данная категория понятий пока не слишком осознанно используется в пространстве семейного права. Часть из социальных понятий уже вошла в семейно-правовой лексикон с восприятием их как ординарных, то есть таких, которым уже задан собственный правовой смысл. Но проблема их уместности, как и совместимости с уже существующей линейкой собственных правовых понятий, в науке семейного права не обсуждается совсем. В связи с этим не высказано и никаких научных обобщений на этот счет. Вопрос о том, является ли обращение к социальным понятиям расширением предмета и методов исследования семейно-правовой науки или же перед нами новые аспекты семейно-правовой реальности, также не ясен. Пока можно говорить лишь о фактическом использовании в юридическом обороте понятий, имеющих принадлежность к области социологического знания, как той области науки, где им задано собственное предметное значение.
Социальный родитель, социологические теории, семейное законодательство, научные понятия в юриспруденции
Короткий адрес: https://sciup.org/147236819
IDR: 147236819 | УДК: 347.61 | DOI: 10.17072/2619-0648-2021-4-21-33
Текст научной статьи Социальные понятия в науке семейного права (на примере понятия "социальные родители")
Е стественность детско-родительских отношений, восприятие их как части того, что было и всегда будет, нередко не заставляют задумываться о терминах, используемых для научного описания этих отношений. Подобное сегодня происходит в отечественной науке семейного права, включившей в свой юридический словарь такие понятия, как «социальное сиротство»1, «социальные родители»2, «социальный отец»3. Аналитическая подборка юридических случаев их употребления свидетельствует о том, что вовлечению этих терминов в научный оборот юриспруденции сопутствуют множественные допущения. Такое положение создает весьма обманчивое представление о том, что использование социальных понятий для правового описания родительства и детства уместно всегда и во всех случаях.
На самом деле это не так. Нетрудно заметить, что свое начало эти допущения черпают в той общепризнанной актуальности, что априори задана термину «социальный», адресующему ко всему тому, что связано с общественно значимым, имея отграничение от природного. Однако автоматизм этой заданности заметно слабеет при попытке вместить вовлеченные в научный оборот понятия, нагруженные прилагательным «социальный», в уже существующий терминологический семейно-правовой ряд. Исход таких попыток пока не является удачным. Причин тому несколько, две из них – в числе приоритетных. Первая – в абсолютной неизвестности научных подходов, которые лежат в основе теоретического описания указанных понятий. Выпадение, по сути, базовой ступени из алгоритма изучения явлений, стоящих за социальными детско-родительскими понятиями, дает простор для широкой трансляции этих понятий в теоретических дискурсах. Однако полное отсутствие взглядов на юридически сущностную сторону явлений, обозначаемых этими понятиями, делает невозможными дальнейшие исследования. Вторая причина кроется в непознанности представителями юриспруденции достижений социологической мысли о социальных родителях, отцах, воспитателях. Лишь в самых редких случаях обращение к этим социальным понятиям связывается
Е. Г. Комиссарова _________________________________________________________________ с социологическими теориями4, намного более привычна оторванность от этих учений. Между тем перед нами тот самый случай, когда междисциплинарные связи даже на уровне простого информационного обмена между дисциплинами могут послужить формированию и новой семейно-правовой проблематики, и ее концептуального языка, способного исключить примитивный транзит социальных понятий, созданных и осмысленных в другой области общегуманитарного знания.
На данный момент фактическое проникновение социальных терминов в семейно-правовое пространство совсем не связано с рефлексией по поводу того, какую смысловую нагрузку они несут. Проблема обретает свою остроту. И дело не только в том, что «язык права – это профессиональный подъязык, характеризующийся присущими только ему лингвистическими, функциональными и логическими особенностями»5. Важно еще и то, что вновь образованные понятия из разряда социальной лексики «накладываются» на существующие и вполне устоявшиеся семейно-правовые понятия, уже имеющие собственный правовой смысл и содержание.
Если данный вопрос поставить более категорично, то сложившуюся ситуацию теоретического «копирования» социальных понятий можно обозначить еще конкретнее – как начало конкуренции понятий социальных с понятиями правовыми. Ничего продуктивного и прогрессивного эта ситуация науке семейного права, и без того блуждающей на перепутье между советским прошлым и много раз заявленным кризисом семьи, не несет.
То, что вхождение аналитического языка других общегуманитарных дисциплин в предметную область права не является процессом автоматическим, то есть неконтролируемым, довольно наглядно продемонстрировала судьба законопроекта № 649634-6 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи детей на социальное воспитание»6, внесенного в Государственную Думу в 2015 году. Инициаторы проекта предприняли попытку представить социальных воспитателей в качестве юридической реальности. Процесс манифестации законопроекта был прерван после первого чтения. Очевидно, что другой судьбы у этого документа в условиях явного конфликта интерпре- таций понятия «социальное воспитание», ради которого и затевался сам законопроект, быть не могло.
Законопроект снят с обсуждения, однако вопросы остались. Как минимум предстоит отыскать ответ на вопрос: чего в законопроекте в смысле использования в нем социальной терминологии было больше: простой ассоциации термина «социальный» с термином «общественный» или непродуманного заимствования теоретических конструкций, сформированных в социологической науке?
Ознакомление с пояснительной запиской к законопроекту7 дает понимание того, что предметом регулирования предлагаемых изменений должны были стать отношения по семейному устройству детей, утративших родительское попечение. Однако почему для целей их правового регулирования в дополнение (или в противопоставление?) к уже известному правовому понятию «опека и попечительство» выбрали понятие «социальное воспитание ребенка»?
Для понимания того, было ли это ошибкой, заблуждением или обычным декларативным приемом в целях привлечения законодательного внимания к проблемам социального воспитания, которое, по замыслу инициаторов законопроекта, компенсирует временную или постоянную утрату естественного семейного воспитания, важно вполне определенно ответить на вопрос о том, в каком значении термин «социальный» вошел (впервые для семейного законодательства) в проект закона. Вопрос отнюдь не праздный, поскольку в социальной философии и социологической науке общепризнанным является положение, согласно которому «лик у социальности не один, их много»8.
История семейно-правовой науки и семейного законодательства уже не раз подтверждала тот факт, что терминосистема семейного права и семейного законодательства весьма специфична, и в первую очередь за счет терминологизации под ее цели большого числа общеупотребимых терминов. Одним из них оказался термин «социальный», наиболее часто употребляемый как синоним термина «общественный».
Пример отождествления этих терминов применительно к семейноправовым явлениям есть в государственно-правовой истории детства в по- слереволюционной России. В это историческое время радикальной смены всех государственных контекстов прежние частноправовые понятия, причисленные к буржуазным, оказались не везде уместными. Под давлением государственной идеологии, озабоченной противопоставлением капиталистическому семейному праву, советская семейно-правовая наука первого десятилетия после революции обрела черты самобытности вследствие изолированности от достижений как дореволюционной, так и зарубежной науки семейного права. Как утверждал в 1918 году советский государственный деятель А. В. Луначарский, «процессы воспитания и выращивания детей должны... быть изъяты из приватной сферы семьи, не способной обеспечить правильное формирование гражданина нового социалистического государства, и перенесены в систему государственных институций, работающих по единому образцу». В развитие этих взглядов А. В. Луначарский рассуждал о социальном воспитании, именно в нем видя ответ на вопрос, «кто должен воспитывать детей – семья или общество, так как социальное воспитание может толковаться как воспитание общественное»9.
Тот факт, что во главу угла в семейном праве этого периода ставился интерес общественный, то есть социальный, отмечал в 1927 году и С. И. Раевич, отстаивая идею отделения семейного права от гражданского10. Эта идея породила другую, согласно которой отношения между родителями и детьми обрели форму социальных, или общественных, функций, когда в родителях видели социальных воспитателей, которые «в силу закона призывались к исполнению этих обязанностей впредь до того момента, пока их не находили нужным заменить другими людьми»11.
Это был тот период истории, когда, согласно известному ленинскому выражению, «ничего частного не признавалось». Сегодня, когда регулирование семейных правоотношений бесспорно отнесено к регулированию «закона частного», историческая синонимия социальных понятий в их широком общественном значении, указывающих на общество как нечто целое, с современными семейно-правовыми понятиями уже не может быть столь однолинейной.
Считается, что проблема социального отцовства (материнства) пришла в проблематику семейного права одновременно с продвижением современных медицинских технологий, позволяющих не связывать происхождение ребенка только с биологическими критериями. Это привело к распростране- нию теории, в соответствии с которой родительские отношения рассматриваются не только как биологические, но и как социальные12. Последнее качество родительства активно исследуется в социологической науке, освещающей эту проблематику в тесной связи с социологией семьи, как той специальной научной областью социологического знания, которая изучает эффективность функционирования семьи в качестве социального института, реализующего необходимые для общества функции по воспроизводству и социализации новых поколений благодаря индивидуальной мотивации к семейному образу жизни. В рамках этого вида предметного знания социальное родительство познается как особое родительство, которое «не связано с воспитываемым ребенком биологическими узами», но реализует в отношении него «функцию родительства в полной мере»13.
Отбор детско-родительских отношений, которые складываются вне биологической связи, дает основания представителям этой науки относить к социальному родительству усыновление, приемную семью, опеку / попечительство, патронат, воспитание в госучреждениях (социальное «квазироди-тельство»)14. Аналогичной является научная позиция и зарубежных социологов, указывающих на то, что «все виды родительства, кроме биологического, считаются социальными... однако за понятием “социальное родительство” скрывается не одна, а множество социальных реалий»15.
Словарные определения социальных родителей, социальных отцов, социальных сирот, нечасто, но воспроизводимые в разных видах неюридических словарей, позволяют увидеть, что в основе всех даваемых определений лежит так называемая теория социальных ролей16. Познавательный ресурс этой теории, развившейся в процессе интеграции двух других теорий – биологического детерминизма и социального конструктивизма, направлен на объяснение того, «какое поведение ожидается от людей, занимающих конкретные социальные позиции, или каким образом и на основе чего они вырабатывают конкретные модели поведения, занимая эти позиции»17. Сторонники ролевой теории, отра- жающей биосоциальный подход, отмечают, что одни социальные роли могут быть предписаны биологически (кровные родители), другие осваиваются через принятие определенных отношений – например, отчимства или фактического воспитания ребенка как разновидностей приемного родительства с заданной им социальной ролью. Соответственно, все те роли, которые в отношениях с ребенком не являются биологически заданными, воспринимаются как социально достигнутые. Отсюда в социологии берет свое начало и наименование такое предметное понятие, как «социальный родитель», дословно означающее принятие лицом на себя социально полезной роли «как бы родителя». Успешное функционирование этого понятия в социологическом знании обеспечивается как лексико-семантической системой языка в целом, так и сложившейся системой научных понятий, описывающих детско-родительские отношения в ситуациях стандарта (семья) и нестандарта (вне семьи).
Эмпирические методы исследования, принятые в социологии, ориентированы на реальные практики поведения различных слоев и групп. Абсолютно ясно, что достижение этих социологических целей практически не связано с тем, что зафиксировано в нормах права: «социологи не всегда изучают то право, которое соотносится с официальными текстами»18. Исследуя в рамках собственного специфического подхода семью как автономную подсистему социума, стремясь к ее целостному анализу, социологи вырабатывают соответствующие ей социальные понятия. И выбор их является естественным актом науковедческой рефлексии.
Суждение представителей социологической науки о том, что «биологические и социальные аспекты родительства могут быть разделены между более чем двумя людьми»19, легализовано во многих странах. Оно отнюдь не покушается на незыблемость другого суждения – что «у ребенка должны быть два родителя». Это явное свидетельство того, что биологические связи были и остаются имеющими исключительное значение. Одна из целей разделения биологического и социального родительства – обратить внимание не только на статику, связанную с происхождением родительства как того порогового определения, за которым начинается осуществление родительских прав, но и на динамику детско-родительских отношений, где достаточно поводов для родительства социального.
На данный момент можно констатировать, что эмпирический и теоретический материал по проблемам социального родительства, накопленный в системе социологического знания20, в той или иной мере оказывает влияние на научные позиции представителей науки семейного права. Но та научная теория, в рамках которой имеет смысл научно описывать понятие социального родительства, вычленять его, познавать его юридические сущности, для юриспруденции остается неизвестной.
Предметом и итогом исследовательского внимания научные понятия сами по себе не становятся. Как правило, «они часть какой-то научной теории, учения или иного теоретического построения, слагаемых из наиболее простых научных понятий и их видов – категорий, представляющих собой теоретическое (абстрактное) выражение предметных явлений»21. Такой теории в семейно-правовой науке пока не создано. В этом одна из причин того, что сегодняшние попытки употребления социальной терминологии в приложении к таким известным семейно-правовым понятиям, как «родитель», «отцовство», «материнство», выглядят практически безрезультатными, а употребление социально-родительской терминологии в ее якобы юридическом значении происходит на уровне индуктивного знания, не выходя за пределы здравого смысла. Отсюда и употребление понятий, которые расшифровывают данную терминологию, ограничено лишь их мировоззренческой ценностью с намерением придать им качество универсальных феноменов, чья смысловая нагрузка зависит от взгляда конкретного ученого, стремящегося их познать.
По понятным причинам при столь упрощенном подходе к научному словоупотреблению наблюдается тяготение к общеупотребительному значению термина «социальный». Как известно, в данном значении этого многозначного термина все прочие предметные значения, разработанные в таких специальных областях научного познания, как социология и социальная философия, игнорируются.
Текущие рассуждения представителей науки семейного права, связанные с социальными понятиями, обычно идут в обход аксиомы о том, что «любое включаемое в содержание понятийного аппарата правовое понятие призвано обладать высокой степенью определенности, смысловой однозначностью, ясностью и доступностью для понимания»22. При таком положении остается лишь констатировать, что понятия, сопровождаемые прилагательным «социальный», воспринимаются семейно-правовой наукой не только как заданные, но и как вполне известные в структуре ее терминологического ряда. Что, конечно, не так.
Далеко не все терминологические нюансы семейных отношений, при всей их кажущейся естественности и естественной связанности с жизнью общества, легко распознаваемы. Однако следует помнить, что точность юридического термина не всегда связана с его этимологией и «часто эту точность определяют те значения, которые привносятся в данную терминологию»23. Этим и обусловлена одна из неотъемлемых особенностей термина в виде по-нятийности его значения24. Данное суждение дает вполне легальные основания утверждать, что в разных отраслях научного знания за одним и тем же термином часто стоят различные понятия. Отсюда проведение полной аналогии между терминами «социальный родитель» в социологии и в юриспруденции выглядит методологически ущербно. Не может быть достаточной для права характеристика этого явления «за счет анализа “примитивных” социологических практик»25, ориентированных на сущее. Из сущего, как известно, то должное, что является категорически важным для права, не выводится. Если для социологического знания признание лица социальным родителем означает выполнение им роли родителя, то есть «быть им», то для того, чтобы назвать родителя социальным по правилам правовой реальности, нужны соответствующие юридические основания. Для признания лица биологическим родителем это медицинские доказательства происхождения ребенка от данных родителей (биологическое или генетическое родительство). Для признания лица законным родителем значим судебный акт усыновления ребенка (родительство юридическое). Если рассуждать о родительстве социальном, то по канонам права пока не существует тех формальных оснований, которые были бы юридически значимыми для его признания.
Понятийный аппарат семейного права – это целостное и системное логико-юридическое образование, в структуру которого входит также и его научно-понятийный аппарат. Этот аппарат зарождается и функционирует в науке, и уже этим он самоценен. Как таковых собственных отраслевых исследований, обращенных к познанию научных понятий, в науке семейного права нет. Но есть общеправовые исследования26, и они вполне могут служить ориентиром для представителей семейно-правовой науки. Простейши- ми составными частями этого аппарата являются научные понятия, которые, как мы уже указали, сами по себе не становятся предметом и итогом исследовательского внимания.
Доктринальная история юриспруденции о том, что должно представлять собой само научное понятие как форма мысли и чем отличаются правовые понятия от других научных понятий, берет свое начало в 70-х годах прошлого века. Именно тогда в юридической науке начались исследования, посвященные специфике правовых понятий и их сравнению с понятиями неправовыми. Тогда же к ним присоединились и представители частноправовых отраслей, указавшие на то, что «если научные понятия правильно образованы, то происходит наращивание нового знания в виде идей, теорий, обоснованных выводов и рекомендаций»27. Ни того, ни другого применительно к социальным понятиям, всё охотнее вовлекаемым в семейноправовые дискурсы, пока нет.
Формулируя заключительные суждения, заметим, что нет оснований полагать, будто понятия «социальный родитель» и «социальный отец» вовлечены в сферу юриспруденции только как исключительно актуальные, политически контекстные и близкие к социальным реалиям. Отечественная фами-листика, испытываемая многочисленными социальными, политическими и экономическими вызовами, предпринимает попытки выйти за пределы узкобиологического отцовства, заложенного в нормах действующего Семейного кодекса РФ. Однако совершенно неоправданно начинать и развивать то или иное теоретическое учение путем заимствования «по умолчанию» понятийной базы научных соседей. Для права эти процессы обычно начинаются с нахождения и осмысления новых фактов правовой реальности, запускающих процесс появления новых научных понятий. Эти создаваемые наукой понятия в первую очередь должны работать на саму науку, развивая ее, обеспечивая тот уровень предметно-научных знаний, при котором она будет востребована со стороны законодателя, совсем не заинтересованного в том, чтобы «на ходу» создавать новые понятия и термины. Пока же речь идет в большей степени о формальных категориальных заимствованиях. Все выглядит так, будто «транзитные» понятия из области социологического знания являются обычной нормой для категориального аппарата семейного права, в то время как необходим содержательный подход, по итогам реализации которого, вполне возможно, появятся точки обоснованного соприкосновения социальной терминологии с правовой.
Список литературы Социальные понятия в науке семейного права (на примере понятия "социальные родители")
- Абрамова А. И. Правовые понятия в общем цикле развития российского законодательства // Журнал российского права. 2017. № 11. С. 34-42.
- Алексеева Э. Р. Анализ семейных форм социального родительства в современной России // Вестник Башкирского университета. 2008. Т. 13. № 3. С. 644-647.
- Антокольская М. В. Семейное право. М.: Юристъ, 1996. 366 с.
- Антокольская М. В. Семейное право: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. 336 с.
- Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание: учеб. пособие. М.: Просвещение, 1979. 416 с.
- Бирюков С. В. Понятие права между юриспруденцией и социологией // Lex russ^a. 2017. № 9. С. 9-21.
- Виландеберк А. А. Права и интересы ребенка: терминол. слов.-справ. СПб.: Инфо-да, 2004. 60 с.
- Виландеберк А. А. Принципы и методы гармонизации терминологии на основе корпуса специальных параллельных текстов (на материале документов ООН): автореф. дис. ... канд. филолог. наук. Санкт-Петербург, 2005. 22 с.
- Власов Д. В. Системность понятийного аппарата права // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2009. № 1. С. 160-167.
- Генкин Д. М., Новицкий И. Б., Рабинович Н. В. История советского гражданского права. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1949. 544 с.
- Ерохина Е. В. Семейно-правовые ценности в российском и европейском семейном праве: моногр. Оренбург: ООО «Типография "Агентство Пресса"», 2018. 116 с.
- Иоффе О. С. Логические пределы понятий юридического лица, оперативного управления, хозяйственного обязательства // Правоведение. 1972. № 6. С. 103-115.
- Карибян С. О. Правовое регулирование социального сиротства в России // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2013. Вып. 2(78). С.145-155.
- Комиссарова Е. Г. Методологические аспекты научно-понятийного аппарата в цивилистике // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2019.№ 1. С. 197-216.
- Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 158 с.
- Луман Н. Теория общества (вариант San Foka '89) / пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Теория общества: актуальные проблемы. М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 1999. С. 196-235.
- Луначарский А. В. Речь о социальном воспитании. Речь, произнес. 3 ноября 1918 г. в Петрограде. Пб.: Изд-во Комиссариата нар. просвещения Союза коммун Сев. обл., 1918. 14 с.
- Маккарти Дж. Р., Эдвардс Р. Исследования семьи: основные понятия / пер. с англ.; науч. ред. Е. Ю. Рождественской. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 342 с.
- Некрасова Е. В. Некоторые особенности возникновения родительских прав и обязанностей в странах Европы // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Юридические науки. 2019. № 4. С. 298-303.
- Панкратова Н. В., Солодников В. В. Социальное родительство // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены: информация и анализ. 2007. № 3. С. 105-111.
- Панов Н. И. Методологические аспекты формирования понятийного аппарата // Правоведение. 2006. № 4. С. 18-28.
- Раевич С. И. Брачное и семейное право // Основы советского права: учеб. пособие / И. С. Войтинский, Ф. И. Вольфсон, А. Я. Вышинский [и др.]; под ред. Д. А. Мегеровского. М.; Л.: Госиздат, 1927. С. 420-429.
- Профилактика социального сиротства. Материалы «круглого стола». 20 июня 2018 года. М.: Государственная Дума, 2018. 64 с.
- Сидоренко А. А. Экспертное мнение о социальном родительстве в современной России. URL: http://odtdocs.ru/biolog/4331/index.html.
- Смирнов Г. П., Смирнов П. И. Понятие «социальное» как средство построения социологической теории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12, Психология. Социология. Педагогика. 2009. Вып. 3. Ч. 1. С. 19-25.
- Токарева С. Б. Концептуальный смысл понятия «социальное» // Вестник Волгоградского университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. 2010. № 1 (11). С. 20-26.
- Туранин В. Ю. Юридическая терминология в современном российском законодательстве: теоретико-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. Белгород, 2017. 437 с.
- Усачева Е. А. Социальное отцовство (материнство): постановка проблемы // Российский юридический журнал. 2019. № 6. С. 115-120.
- Vaskovics L. A. Soziale Elternschaft // Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. 2020. Vol. 23. S. 269-293.
- Peukert A., Motakef M., Teschlade J. & Wimbauer C. Soziale Erziehung -konzeptioneller Stiefsohn Familiensoziologie // Neue Zeitschrift für Familienrecht. 2018. № 5 (7). S. 322-326.
- Sanders A. Mehrelternschaft. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018. 535 s.