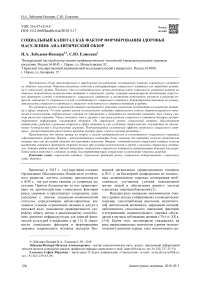Социальный капитал как фактор формирования здоровья населения: аналитический обзор
Автор: Лебедева-несевря Н.А., Елисеева С.Ю.
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Аналитические обзоры
Статья в выпуске: 3 (23), 2018 года.
Бесплатный доступ
Представлен обзор отечественных и зарубежных исследований, посвященных влиянию социального капитала на здоровье населения. Описаны различные подходы к интерпретации социального капитала как атрибута индивида и социальной группы. Показано, что на индивидуальном уровне различные виды социального капитала влияют на здоровье посредством включенности индивида в социальную группу, которая минимизирует воздействия стрессовых факторов (случай «сплачивающего» социального капитала) и выступает источником ресурсов в решении вопросов, связанных со здоровьем (случай «соединяющего» социального капитал). Акцентируется внимание на взаимозависимости социального капитала и социально-экономического статуса индивида и группы. На групповом уровне социальный капитал выступает в качестве механизма воздействия на поведение индивида в сфере здоровья. То есть группа имеет возможность задавать определенные модели здоровьесохранного поведения и использовать неформальные санкции по отношению к девиантному поведению индивида, тем самым снижая риски для здоровья...
Социальный капитал, социальные факторы риска, социальные детерминанты, социальные сети, здоровье
Короткий адрес: https://sciup.org/142215899
IDR: 142215899 | УДК: 316.47+314.4 | DOI: 10.21668/health.risk/2018.3.17
Текст обзорной статьи Социальный капитал как фактор формирования здоровья населения: аналитический обзор
Принятые в 2015 г. государствами-членами Организации Объединенных Наций цели устойчивого развития, достичь которые предполагается к 2030 г., так или иначе связаны со здоровьем населения. Причем большинство из них ориентировано на противодействие социальным факторам риска здоровью и предполагает сокращение доли населения с низким социально-экономическим статусом, определяющим неблагоприятные жилищные условия, ограничения питания и доступ к питьевой воде, повышение приверженности здоровому образу жизни и рациональному потреблению, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и рекреации и пр. [1]. О значимости социальных факторов в формировании здоровья современного человека эксперты Все- мирной организации здравоохранения говорили в 2011 г. на Всемирной конференции по социальным детерминантам здоровья, подчеркивая необходимость улучшения условий повседневной жизни людей и обеспечения равного доступа к ресурсам здоровьесбережения [2].
Ведущая роль социально-экономических (низкого уровня дохода и образования) и поведенческих (курения, злоупотребления алкоголем, недостаточной двигательной активности, нарушений питания, небезопасного сексуального поведения) факторов в детерминации индивидуального здоровья обсуждается в научных публикациях начиная с 70-х гг. XX в. [3–8]. Кроме того, неоднократно указывалось на роль макросоциальных контекстов (уровня технологического развития страны, типа политического ре-
жима, интенсивности миграционных процессов и пр.) в формировании более близких социально обусловленных причин заболеваний [9, 10]. С конца 1990-х гг. в дискурс о социальной детерминированности здоровья интегрируется новый концепт – «социальный капитал». С одной стороны, это объясняется популяризацией теории социального капитала в опубликованных в это время работах Дж. Коулмана [11] и Р. Патнэма [12], с другой – необходимостью поиска новых ответов со стороны системы здравоохранения в развитых странах мира на вызовы сохраняющегося неравенства в сфере здоровья.
Несмотря на почти тридцатилетнюю историю изучения связи социального капитала и здоровья, данный вопрос остается дискуссионным в силу того, что отсутствует единый взгляд на сущность и структурные компоненты социального капитала. Это связано, в первую очередь, с его интерпретацией либо как атрибута индивида (подход, берущий начало в работах П. Бурдье [13]), либо – социальной группы (трактовка Р. Патнэма [14]).
Индивидуальный социальный капитал выражается через способность индивида извлекать выгоды из принадлежности к различным социальным сетям [15]. Предполагается, что индивиды «инвестируют» в социальные сети с целью получения «отдачи в инструментальных действиях» [16]. Посредством сильных и слабых связей в социальных сетях индивиды имеют возможность в случае необходимости мобилизовать имеющиеся в сети ресурсы (деньги, репутацию, власть, информацию, поддержку и пр.), в которые конвертируются отношения между участниками социального взаимодействия [17], либо с их помощью более эффективно использовать собственные ресурсы [18]. Размер индивидуального социального капитала определяется социальным статусом индивида, его положением в социальной сети и целью взаимодействия (инструментальной или экспрессивной) [19], а возможности его накопления – интериоризированными нормами, высоким уровнем социальной солидарности или ориентацией на реципрокность [15].
Социальный капитал как характеристика группы или общества в целом означает, что в случае высокого уровня коллективного социального капитала (high social capital) сообщества (территории, региона, страны) даже индивиды с низким уровнем индивидуального социального капитала могут получать определенные выгоды («быть бенефициарами») [20]. Социальный капитал на групповом уровне имеет два измерения – структурное (социальные сети различной степени формализованности) и культурное (разделяемые членами социальных сетей нормы, обеспечивающие доверие участников взаимодействия друг другу) [21]. Сформированные внутри групп нормы (в том числе взаимности) генерализуются и переносятся на все общество, способствуя его сплочению и повышению солидарности [14]. Значимой мерой социального капитала на уровне сообщества выступает доверие – обобщенное межличностное («людям вообще») и институциональное [22]. На результатах измерения доверия базируется значительное число эмпирических исследований социального капитала [23–26].
Как связан социальный капитал с индивидуальным и общественным здоровьем? На индивидуальном уровне может быть предложено несколько объяснений. Первое – вовлеченность в социальные сети (родственные, дружеские, профессиональные, конфессиональные и пр.) обеспечивает индивида различными формами социальной поддержки (эмоциональной, инструментальной, оценочной и информационной) [27], которая способна выступать в качестве «буфера», минимизируя негативное воздействия стрессовых факторов [28]. Механизмом действия «буфера» является «переоценка» стресса, снижение значимости стрессового фактора, увеличение границ диапазона способов решения проблем, усиление копинг-стратегий, изменение настроения индивида и пр. [29, 30]. Именно в высоком уровне внутригрупповой поддержки заключается классический «эффект Розето», объясняющий существенно более низкие показатели смертности от сердечнососудистых заболеваний в американо-итальянском городе Розето по сравнению с соседним Бангором (штат Пенсильвания, США) в 1935–1965 гг. [31]. Второе – включенность в социальные сети дает возможность индивиду использовать материальные и организационные ресурсы данной сети [32]. Наглядно это можно представить на примере задействования индивидами в случае проблем со здоровьем «цепей социальных отношений» [33] при поиске учреждений и специалистов в сфере медицины в советское и постсоветское время. Третье объяснение связано с взаимозависимостью социального капитала и социального статуса индивида, где обладание первым приводит к повышению второго, что, в свою очередь, определяет доступ к качественному питанию, инфраструктуре спорта и рекреации, безопасному жилью и квалифицированным медицинским услугам [34]. Кроме того, высокий статус формирует «позитивное ощущение избранности» и влияет на снижение стресса [35].
Высокий уровень индивидуального социального капитала часто сочетается с высоким социальноэкономическим статусом и здоровьем [36], что объясняется с помощью категорий-медиаторов «здоровый стиль жизни» и «самосохранительное поведение». Так, исследования в Великобритании и Швеции показали, что индивиды с высоким социальноэкономическим статусом и «сильным» социальным капиталом, как правило, придерживаются принципов здорового питания, употребляют много овощей и фруктов [37, 38]. Авторы исследований, посвященных анализу связи уровня социально-экономического благополучия микрорайонов (neighborhood socioeconomic status), социального капитала и здоровья приходят к выводу, что в благополучных рай- онах у жителей (очевидно, уже обладающих определенным социальным статусом) больше возможностей инвестировать в развитие социальных сетей [39]. «Богатые» районы безопасней, следовательно, люди (особенно дети и пожилые) могут чаще встречаться и заниматься совместной деятельностью, как следствие, у них больше возможностей накапливать социальный капитал и использовать его для укрепления здоровья [40]. В то же время исследования бедных районов показали, что их жители также могут быть включены в социальные сети с высоким уровнем доверия, сплоченности и готовности к взаимопомощи, то есть обладать определенным социальным капиталом, несмотря на свой низкий социально-экономический статус [41].
Различные типы индивидуального социального капитала неодинаково вовлечены в продуцирование эффектов для здоровья. Поскольку на индивидуальном уровне социальный капитал есть отражение включенности в социальные сети, его принято разделять на «сплачивающий» (bonding), описывающий связи между близкими «своими людьми» (семья, друзья), «наводящий мосты» (bridging), касающийся сетей с более слабыми связями (коллеги, соседи) [42] и «соединяющий» (linking) [43], затрагивающий вертикальные связи между людьми из различных социальных слоев. Обладание сплачивающим социальным капиталом позволяет получать социальную поддержку, тогда как «наводящий мосты» или «соединяющий» капитал дают доступ к информационным или организационным ресурсам.
Рассматривая социальный капитал в качестве коллективной характеристики, можно выделить два способа его влияния на здоровье. Первый связан с воздействием социальных групп с сильными внутренними связями на индивидуальное поведение в сфере здоровья. Подобные группы, обладающие ясными разделяемыми нормами взаимности (взаимопомощи) и высоким уровнем доверия, задают (диктуют) своим членам определенные стандарты и модели поведения, в том числе в сфере здоровья. Многочисленные эмпирические исследования профессора Гарвардского университета И. Кавачи показали, что люди, проживающие в локальных сообществах (neighborhoods), обладающих высокой степенью социальной интеграции, в значительной мере склонны следовать декларируемым лидерами и одобряемым членами сообщества нормам самосохрани-тельного поведения, в частности, они охотнее посещают лечащего врача с профилактической целью, чаще отдыхают в парках и скверах [44]. Кроме того, высокий уровень групповой сплоченности позволяет эффективно использовать неформальные санкции в случае реализации членами группы девиантного поведения [45], снижая тем самым и индивидуальные, и социальные риски здоровью. Наконец, в группах с высоким уровнем социального капитала быстрее распространяется информация, касающаяся здоровья – об опасностях, связан- ных с загрязнением окружающей среды, о возможностях и инновациях в сфере сохранения и укрепления здоровья и пр.
Важно отметить негативные эффекты социального капитала, проявляющиеся, например, в группах с высоким уровнем сплоченности и негативными (противоречащими общепринятым) групповыми нормами. В таких сообществах при помощи группового давления могут распространяться рискогенные практики (курение, злоупотребление алкоголем, незащищенные сексуальные контакты) и навязываться определенный стиль жизни [46].
Второй способ влияния группового социального капитала на здоровье связан с гражданской включенностью, часто называемой индикатором социального капитала [47, 48]. Группы с более высоким уровнем социального капитала скорее являются социально активными, готовыми вовлекаться в принятие решений в сфере здоровья. Они с большей вероятностью будут проявлять инициативу, участвовать в локальных проектах, направленных на сохранение и укрепление здоровья сообщества (community) [49]. На страновом уровне данная связь проявляется через развитую систему общественного контроля и публичного управления [50]: чем выше уровень межличностного доверия и социальной солидарности в обществе, тем более эффективны институты гражданского контроля, как следствие – тем более социально ориентированным, заботящемся о безопасности и благополучии граждан является государство.
Социальный капитал на уровне сообщества принято разделять на структурный, отражающий разнообразие социальных связей и взаимодействий, и когнитивный, описывающий качество этих связей через уровень доверия и «социальной гармонии» [51], выражающейся в готовности оказывать поддержку, делиться ресурсами [52]. В исследовании на основе базы данных Европейского социального исследования 2008–2009 гг. о состоянии здоровья жителей 28 европейских стран и их уровня структурного и когнитивного социального капитала было показано, что в странах постмодерна влияние доверия на общественное здоровье является высоким, тогда как в менее развитых странах более значимыми оказываются систематические контакты с близким окружением. Это объясняется тем, что в постмодернистских странах активная социальная политика сочетается с развитостью общественных структур, поэтому люди не склонны искать поддержку только в близком окружении и, наоборот, при высоком уровнем доверии стараются вступать в различные ассоциации, что в последующем повышает их уровень здоровья [53].
Принципиальным вопросом является то, какой вид социального капитала оказывает на здоровье наибольшее воздействие. Специалисты национального НИИ общественного здоровья РАМН в 2013 г. описали связь здоровья и социального капитала по данным исследования глобального старения и здо- ровья населения России за 2007–2010 гг. (объем выборочной совокупности 4355 человек) [54]. Здоровье характеризовалось на основе самооценки по 5-балльной шкале, которая в последующем была сгруппирована в три категории: «очень хорошее и хорошее», «удовлетворительное», «плохое и очень плохое». Социальный капитал был измерен через межличностное доверие и социальную активность. Производилось сравнение показателей в разных социально-демографических группах. Достоверность различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Было установлено, что уровень обобщенного доверия влияет на чувство безопасности индивида и самооценку здоровья, равно как и межличностное доверие – если в близком окружении нет хотя бы одного человека, которому индивид безоговорочно доверяет, то это повышает для него вероятность низкой самооценки здоровья. В итоге авторы пришли к выводу, что непосредственные контакты более значимы для здоровья индивида, нежели общая атмосфера в социуме и участие в общественных организациях, так как последняя в значительной степени зависит от психотипа личности.
Сравнительное исследование влияния когнитивного социального капитала на самооценку здоровья и вероятность развития симптомов депрессии у мужчин и женщин в Швеции и Украине, проведенное в 2015 г., показало, что связь когнитивного социального капитала и самооценки здоровья в Швеции проявляется более отчетливо, притом, что уровень капитала там также выше [55]. Статистически значимая зависимость самооценки здоровья от уровня институционального доверия и вероятности симптомов депрессии от недостаточного чувства безопасности была обнаружена как для шведских мужчин, так и для женщин, тогда как на Украине подобные связи справедливы только для женщин.
В исследовании британских специалистов показано, что при одновременном включении в анализ обеих форм социального капитала, индивидуального и коллективного, последний не оказывает значимого влияния на здоровье [37], тогда как данные норвежских исследователей демонстрируют одинаковую важность капитала как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях [56]. В Докладе Европейско- го регионального бюро ВОЗ на основе анализа данных Европейского социального исследования (European Social Survey), проведенного в 2002 и 2004 г. в 21 стране, делается вывод о том, что индивидуальный социальный капитал способен выступать значимым факторов формирования здоровья индивида только в случае его включенности в группы, характеризующиеся высоким уровне коллективного социального капитала [57].
Выводы. Обращение к категории социального капитала при анализе способов сохранения и укрепления здоровья населения в современном мире может оказаться в значительной степени продуктивным. Развитие местных сообществ, повышение их социальной активности, вовлеченности в решение локальных проблем, содействие становлению некоммерческих организаций и привлечение к их деятельности представителей самых разных социальных групп будет способствовать улучшению здоровья жителей территорий именно посредством накопления коллективного социального капитала.
Через реализацию мероприятий, направленных на укрепление социальных связей между соседями или сотрудниками одной организации, может быть повышена эффективность риск-коммуникации в сфере здоровья, увеличена скорость распространения значимой информации.
Понимание вклада коллективного социального капитала в детерминацию здоровья определяет необходимость разработки новых подходов к развитию современных городов, в которых неизбежные процессы атомизации индивидов должны замедляться путем создания условий для «сильных сообществ», способных за счет социальных связей, доверия и норм взаимопомощи создать среду, максимально благоприятствующую сохранению здоровья граждан.
Финансирование. Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (проект МД-281.2017.6).
Список литературы Социальный капитал как фактор формирования здоровья населения: аналитический обзор
- Цели в области устойчивого развития //Организация Объединенных Наций: официальный сайт. -URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/(дата обращения: 09.09.2018).
- Социальные детерминанты здоровья: итоги всемирной конференции по социальным детерминантам здоровья (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2011 г.): доклад секретариата //Всемирная организация здравоохранения. -2011. -20 с. -URL: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_15-ru.pdf?ua=1 (дата обращения 09.09.2018).
- Employment grade and coronary heart disease in British civil servants/M.G. Marmot, G., Rose M. Shipley, P.J. Hamilton//Journal of epidemiology and community health. -1978. -Vol. 32, № 4. -P. 244-249.
- Whitehead M. Inequalities in health: the black report and the health divide. -London: Penguin Books, 1992. -464 p.
- Adler N.E., Stewart J. Preface to the biology of disadvantage: socioeconomic status and health//Annals of New York academy of sciences. -2010. -Vol. 1186. -P. 5-23 DOI: 10.1111/j.1749-6632.2009.05337.x
- Social determinants of mental health/J. Allen, R. Balfour, R. Bell, M. Marmot//International review of psychiatry. -2014. -Vol. 26, № 4. -P. 392-407 DOI: 10.3109/09540261.2014.928270
- Braveman P., Gottlieb L. The social determinants of health: It's time to consider the causes of the causes//Public health reports. -2014. -Vol. 129, № 2. -P. 19-31 DOI: 10.1177/00333549141291S206
- Лисицын Ю.П., Журавлева Т.В., Хмель А.А. Из истории изучения влияния образа жизни на здоровье//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. -2014. -Т. 22, № 2. -С. 39-42.
- Galea S. Macrosocial determinants of population health. -New York: Springer publishing company, 2007. -502 p DOI: 10.1007/978-0-387-70812-6
- Stuckler D. Population causes and consequences of leading chronic diseases: A comparative analysis of prevailing explanations//The Milbank quarterly. -2008. -Vol. 86, № 2. -P. 273-326. 008.00522.x DOI: 10.1111/j.1468-0009.2
- Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital//American journal of sociology. Supplement: Organizations and institutions: sociological and economic approaches to the analysis of social structure. -1988. -Vol. 94. -P. 95-120.
- Putnam R.D. Bowling alone: America's declining social capital//Journal of democracy. -1995. -Vol. 6, № 1. -P. 65-78 DOI: 10.1353/jod.1995.0002
- Bourdieu P. The forms of capital. Handbook of theory and research for the sociology of education/ed. J.G. Richardson. -New York: Greenwood, 1986. -P. 241-258.
- Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. -Princeton: Princeton University Press, 1993. -280 p.
- Portes A. Social capital: its origins and applications in modern sociology//Annual review of sociology. -1998. -№ 24. -P. 1-24 DOI: 10.1146/annurev.soc.24.1.1
- Lin N. Building a network theory of social capital//Connections INSNA. -1999. -Vol. 22, № 1. -P. 28-51.
- Гудкова Т.В. Социальный капитал как фактор социокультурного и экономического развития общества//Философия хозяйства. -2015. -№ 2. -С. 197-204.
- Тихонова Н.Е. Социальный капитал как фактор неравенства//Общественные науки и современность. -2004. -№ 4. -С. 24-35.
- Lin N. Social capital: a theory of structure and action. -New York: Cambridge University Press, 2001. -294 p. DOI: 10.1017/CBO 9780511815447
- Putnam R.D. Bowling alone: the collapse and revival of American community. -New York: Simon and Schuster, 2000. -541 p.
- Блок М., Головин Н.А. Социальный капитал: к обобщению понятия//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. -2015. -№ 4. -С. 99-111.
- Фукуяма Ф. Великий разрыв: пер. с англ./под ред. А.В. Александровой. -М: Изд-во ACT, 2004. -474 с.
- Быков И.А. Социальный капитал и политика в России: портрет на фоне Европы//Политическая экспертиза. -2011. -№ 1. -С. 102-116.
- Козырева П.М. Межличностное доверие в контексте формирования социального капитала//Социологические исследования. -2009. -Т. 297, № 1. -С. 43-54.
- Латов Ю. Каков социальный капитал современной России? (сравнительный анализ межличностного и институционального доверия) //Леонтьевские чтения: электронный журнал. -2010. -№ 7. -С. 216-230. -URL: http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/leontief/2010/Latov.pdf (дата обращения: 09.09.18).
- Стебаков А.А. Методы измерения уровня социального капитала в России и за рубежом//Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. -2014. -Т. 14, № 2-2. -С. 430-436.
- House J.S. Work stress and social support. -Addison-Wesley Reading, Mass, 1981. -156 p.
- Cohen S., Wills T.A. Stress, social support, and the buffering hypothesis//Psychological Bulletin. -1985. -Vol. 98, № 2. -P. 310-357.
- Social support and the reactivity hypothesis: conceptual issues in examining the efficacy of received support during acute psychological stress/B.N. Uchino, M. Carlisle, W. Birmingham, A.A. Vaughn//Biological psychology. -2011. -Vol. 86, № 2. -P. 137-142. DOI: 10.1016/j. biopsycho.2010.04.003
- Лифинцева А.А. Социальная поддержка как фактор преодоления негативных последствий стресса//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. -2012. -№ 5. -С. 56-61.
- The Roseto Effect: a 50-year comparison of mortality rates/B. Egolf, J. Lasker, S. Wolf, L. Potvin//American journal of public health. -1992. -Vol. 82, № 8. -P. 1089-1092.
- Berkman L.F., Glass T. Social integration, social networks, social support, and health, in: Social epidemiology/eds. L.F. Berkman, I. Kawachi. -New York: Oxford University Press, 2000. -P. 137-173.
- Бюссе С. Социальный капитал и неформальная экономика в России//Мир России. -2002. -№ 2. -С. 93-104.
- Marmot M. Status syndrome. How your social standing directly affects your health and life expectancy. -London: Bloomsbury, 2004. -311 p.
- Eriksson M. Social capital and health: implications for health promotion//Global Health Action. -2011. -Vol. 4, № 1. -P. 1-11 DOI: 10.3402/gha.v4i0.5611
- A systematic review of the relationships between social capital and socioeconomic inequalities in health: a contribution to understanding the psychosocial pathway of health inequalities/E.P. Uphoff, K.E. Pickett, B. Cabieses, N. Small, J. Wright //International journal for equity in health. -2013. -Vol. 12, № 1. -URL: https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-9276-12-54 (дата обращения: 09.09.18)
- Poortinga W. Do health behaviors mediate the association between social capital and health?//Preventive medicine. -2006. -Vol. 43, № 6. -P. 488-493 DOI: 10.1016/j.ypmed.2006.06.004
- Lindström M., Hanson B.S., Ostergren P.O. Socioeconomic differences in leisure-time physical activity: the role of social participation and social capital in shaping health related behavior//Social science and medicine. -2001. -Vol. 52, № 3. -P. 441-451.
- Veenstra G. Social capital, SES and health: an individual-level analysis//Social science and medicine. -2000. -Vol. 50, № 5. -P. 619-629.
- Social capital, socioeconomic status, and health-related quality of life among older adults in Bogotá (Colombia)/D. Lucumi, L.F., Gomez R.C. Brownson, D. Parra//Journal of aging and health. -2015. -Vol. 27, № 4. -P. 730-750 DOI: 10.1177/0898264314556616
- Altschuler A., Somkin C.P., Adler N.E. Local services and amenities, neighborhood social capital, and health//Social science and medicine. -2004. -Vol. 59, № 6. -P. 1219-1229.
- Gittell R., Vidal A. Community organizing. Building social capital as a development strategy. -California: SAGE Publications, 1998. -206 p.
- Szreter S., Woolcock M. Health by association? Social capital, social theory, and the political economy of public health//International journal of epidemiology. -2004. -Vol. 33, № 4. -P. 650-667.
- Kawachi I., Berkman L.F. Neighborhoods and Health. -New York: Oxford University Press, 2003. -368 p.
- Kawachi I., Kennedy B.P., Glass R. Social capital and self-rated health: a contextual analysis//American journal of public health. -1999. -Vol. 89, № 8. -P. 1187-1193.
- Villalonga-Olives E., Kawachi I. The dark side of social capital: a systematic review of the negative health effects of social capital//Social science and medicine. -2017. -Vol. 194. -P. 105-127.
- Marsh C. Social capital and grassroots democracy in Russia’s regions: evidence from the 1999-2001 gubernatorial elections//Demokratizatsiya: the journal of post-soviet democratization. -2002. -Vol. 10, № 1. -P. 19-36.
- Васильева Е.Н., Полтавская М.Б. Экономическая и социальная активность населения как индикатор формирования социального капитала//Известия Вузов. Поволжский регион. Общественные науки. -2015. -Т. 36, № 4. -С. 113-119.
- Turner B. Social capital, inequality, and health: The durkheimian revival//Social theory and health. -2003. -Vol. 1, № 1. -P. 4-20.
- Kawachi I., Kennedy B.P., Lochner K. Long live community: social capital as public health//The American prospect. -1997. -Vol. 35. -P. 56-59.
- Social capital and mental health: a comparative analysis of four low income countries/M.J. De Silva, S.R. Huttly, T. Harpham, M.G. Kenward//Social science and medicine. -2007. -Vol. 64. -P. 5-20.
- Harpham T., Grant E., Thomas E. Measuring social capital within health surveys: key issues//Health policy and planning. -2002. -Vol. 17, № 1. -P. 106-111.
- Русинова Н.Л., Сафронов В.В. Значение социального капитала для здоровья в странах Европы//Журнал социологии и социальной антропологии. -2014. -№ 3. -С. 112-133.
- Белов В.Б., Роговина А.Г. Социальный капитал и здоровье населения//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. -2013. -С. 3-5.
- Gender differences in the association between cognitive social capital, self-rated health, and depressive symptoms: a comparative analysis of Sweden and Ukraine/K. Karhina, N. Ng, M. Ghazinour, M. Eriksson//International journal of mental health systems. -2016. -Vol. 10, № 37. -P. 1-14. DOI 10.1186/s13033-016-0068-4
- Iversen T. An exploratory study of associations between social capital and self-assessed health in Norway//Health economics, policy, and law. -2008. -Vol. 3. -P. 349-364.
- Rocco L., Suhrcke M. Is social capital good for health? A European perspective. -Copenhagen. WHO Regional Office for Europe, 2012. -24 p.