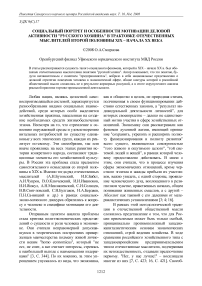Социальный портрет и особенности мотивации деловой активности "русского хозяина" в трактовке отечественных мыслителей второй половины XIX - начала XX века
Автор: Смирнова О.А.
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Историография и источниковедение
Статья в выпуске: 4 т.10, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается сущность такого социального феномена, который в XIX - начале ХХ в. был обозначен отечественными мыслителями понятием "русский хозяин". Автор показывает, что это понятие, будучи несовместимым с понятием "предприниматель", вобрало в себя национальные представления о должной стратегии поведения человека в экономической сфере, общие контуры которой в российской общественной мысли сложились не в результате априорных раздумий, а в итоге скрупулезного анализа реальной практики торгово-промышленной деятельности.
Короткий адрес: https://sciup.org/148198202
IDR: 148198202 | УДК: 9(C)17
Текст научной статьи Социальный портрет и особенности мотивации деловой активности "русского хозяина" в трактовке отечественных мыслителей второй половины XIX - начала XX века
Оренбургский филиал Уфимского юридического института МВД России
В статье рассматривается сущность такого социального феномена, который в XIX – начале ХХ в. был обозначен отечественными мыслителями понятием "русский хозяин". Автор показывает, что это понятие, будучи несовместимым с понятием "предприниматель", вобрало в себя национальные представления о должной стратегии поведения человека в экономической сфере, общие контуры которой в российской общественной мысли сложились не в результате априорных раздумий, а в итоге скрупулезного анализа реальной практики торгово-промышленной деятельности.
Любая нация, являясь целостной само-воспроизводящейся системой, характеризуется разнообразными видами социальных взаимодействий, среди которых особо выделяется хозяйственная практика, нацеленная на создание необходимых средств жизнеобеспечения этноса. Несмотря на то, что стремление к освоению окружающей среды и удовлетворению витальных потребностей по существу одинаковые у всех этнических групп, каждая их реализует по-своему. Эти своеобразия, так или иначе проявляясь на всех этапах развития истории конкретного народа, составляют традиционные элементы его хозяйственной культуры. В России эта проблема стала предметом самостоятельного осмысления со второй половины в XIX в. Именно тогда ряд отечественных мыслителей (А.Н.Бутовский, И.К.Бабст, А.И.Чупров, В.О.Ключевский, И.И.Иванюков, И.И.Янжул, А.Н.Миклашевский, С.И.Солнцев, В.В.Свят-ловский, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, П.Н.Са-вицкий и др.) в рамках социально-эконо-мического дискурса обратились к вопросу о человеке и специфике мотивации его деятельности.
Отправным пунктом анализа проблемы стала критика политэкономических представлений о сущности и роли человека в экономике. Они считали неправомерной допускавшуюся в теоретических построениях приверженцев манчестерства подмену живой личности неким "homo economicus", который "не ест, не спит, а все считает интересы, стремясь к наибольшей выгоде с наименьшими издержками" [3, С. 344]. По их мнению, за этим упрощением упускалось из вида, что экономика, как и общество в целом, не природная стихия, подчиненная в своем функционировании действию естественных законов, а "результат индивидуальной деятельности личностей", для которых своекорыстие – далеко не единственный мотив участия в сфере хозяйственных отношений. Экономику они рассматривали как феномен духовной жизни, имеющий призвание "сохранить, укрепить и расширить полноту функционирования и полноту развития" всего сущего, являющегося совокупностью "того живого и ощутимого целого", "той системой людей и вещей", в рамках которой человеку предоставлено действовать. В связи с этим, они считали, что в процессе изучения сферы экономических отношений, кроме черствого эгоизма и жажды прибыли их участников, важно увидеть, с одной стороны, проявление человеческого духа, воплощенного в религиозном чувстве, нравственных началах, общем понимании жизненных смыслов, а с другой – Абсолют как таковой с его далекими от материалистических установлениями [3; 4; 16].
В рамках этой методологической традиции в отечественной общественной мысли сложилось представление о том, что для России приемлемым может быть только особый, принципиально противоположный западнокапиталистическим основам экономических отношений, строй ведения хозяйства. В ходе сравнения российского хозяйственного типа с западноевропейским предпринимательским типом отечественные мыслители, подчеркивая их нетождественность, отдавали предпочтение первому. "Нет, у нас лучше!" – восклицали многие из них [7, С. 423; 16, С. 421]. Своеоб- разным резюме всех суждений, прозвучавших по этому вопросу во второй половине XIX – начале ХХ в., выглядит замечание П.Н.Савиц-кого, который в 1925 г. писал: "Относиться к делу "по-хозяйски" и "по-предпринимательски" – это вовсе не одно и то же. <…> Предприниматель как духовная сущность – это прежде всего и только homo oeconomicus, "капиталистический человек". У него есть только одно отношение к тому целому, той системе людей и благ, каковой является руководимая им "производственная единица", – это точка зрения получения наибольшего чистого дохода… Но единственно ли такое отношение к делу возможно в хозяйстве? <…> …таким иным… отношением к делу будет хозяйское отношение к нему" [15, С.129]. Фундаментальной чертой этого отношения провозглашалось личное или лично-творческое начало, являемое ХОЗЯИНОМ, а точнее – РУССКИМ ХОЗЯИНОМ [15, С.246 – 247; 14, С. 125].
По словам П.Н. Савицкого, понятие "хозяин", будучи исконно русским, аккумулирует в себе народное представление о должном в сфере экономических отношений, которое предполагает реализацию "хозяйского" подхода к делу, а именно, подхода, основанного на "человеческом отношении к людям, миловании скотов и бережении вещей Божьего мира". Савицкий писал: "В основе понятий о хозяйском отношении лежит представление не о такой деятельности, которая направлена исключительно к получению наибольшего дохода, к "выжиманию" его в первую очередь из человека, но затем также из лошади, телеги, машины, постройки, земли, – но такой, которая, наряду с целью получения дохода, ставит как самостоятельную цель сохранение и расширение довольства работающих в хозяйстве людей", а также поддерживание и повышение порядка и качественности охватываемых хозяйством материальных единиц, чтобы к концу каждого экономического цикла оставить производственные мощности "в состоянии, с хозяйственной точки зрения, не худшем, а по возможности – лучшем, чем то", в котором они в него вступили. При этом хозяин убежден, что основу его благополучия составляют трудящиеся у него люди. Неслучайно, обустройство их жизни он считает своей основной задачей, реализуя которую, он стремится, с одной стороны, материально обеспечить ра- ботников ("чтобы они были довольны своей участью"), а с другой, создать в хозяйстве благоприятную – "иррациональную по своему существу" – атмосферу межличностных отношений, на основе которой "увеличивается сила и крепость того рационального единства, каковым является (и должна являться) "производственная единица", называемая хозяйством [14, С. 219 – 231].
Эти принципы хозяйствования можно считать исконно народными. Сложившись в процессе исторического развития, они получили письменное оформление в разнообразных поучениях и наставлениях русского Средневековья (изборники, "Измарагд", "Златая чепь", "Матица", "Домострой"), составляющих сосредоточие национальной мудрости. В отличие от многих европейских аналогов, имеющих сугубо прикладную направленность, ограниченную стремлением дать практические советы в решении повседневных забот читателю-хозяину, в этих памятниках словесности экономическая деятельность рассматривается не самоценностью, а лишь одним, хотя и чрезвычайно важным, условием общественной состоятельности человека, способом выполнения им нравственного долга перед Богом и людьми. Вот только некоторые из наставлений этого ряда: "Аще бо земные убегаите страды, небесных не узрите благ", "никто без труда не венчан", "труждайтеся, делайте не яко рукоделию и мамоне, но яко Богу" [8, С. 7, 108; 10, С. 125].
Анализ учительной литературы позволяет составить представление о социальном портрете русского хозяина, сложившегося в обществе в XVI-XVII вв. О нем судили как о владельце, властном распорядителе, управителе в доме и семье, которому, говоря словами "Домостроя", надлежало "за всем приглядеть и самому размыслить" [8, С. 95, 138]. Хозяину вменялось в обязанности знать всякое дело в хозяйстве, уметь его самостоятельно выполнить и обучить этому слуг и работников. Кроме того, предъявлялось требование не обижать своих служащих в оплате труда, "кормить как себя", а также "во всем остальном удоволить", регулярно справляясь "об одежде, обо всем необходимом, о всяких их скудости и недостатке, об обиде, о болезни, о всех тех нуждах, в которых можно помочь ради Бога" как своим детям и близким. Однако в качестве основного давался наказ заботиться о духовном здравии работников. Подчеркивалось, что у хорошего хозяина люди должны быть прежде всего научены страху Божьему, т.к. в день Страшного суда ему самому придется держать ответ перед Богом за души вверенных ему людей и от того, как он радел об их спасении, будет зависеть характер его посмертного существования [8, С. 114 – 119].
Представленный домостроевской традицией образ русского хозяина сохранял свою привлекательность вплоть до начала ХХ в. Он признавался социальным эталоном как самими хозяевами, так и представителями общественности. Если первые избирали его в качестве образца для подражания, то вторые через его призму оценивали деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, характеризуя ее либо должной, если она шла в русле патриархальных устоев, либо недолжной, если она им противоречила.
Следуя домостроевской традиции, русский хозяин стремился быть не только работодателем, но и наставником для своих работников, организатором их повседневной жизни ("а люди бы у тебя пребывали в уважении и в страхе, всегда под присмотром" [8, С. 118]). Факт зависимости общественного авторитета торгово-промышленного заведения от характера отношения хозяина к работникам подтверждали сами представители делового мира. Они подчеркивали, что те фирмы, в которых "служащие из-за плохого к ним обращения часто сменялись", уважением не пользовались, получая презрительное название "проходной двор", в то время как предприятия, владельцы которых имели возможность сказать: "От нас уходят только, когда помирают", имели общественное признание [5, С. 115; 13, С. 145]. В связи с этим, думается, показателен характер информации, включавшейся в "представительские материалы" – монографические исследования истории отдельных фирм и торговопромышленных династий, биографии лидеров делового мира, альбомы, рекламные буклеты и т.п. издания. Создаваемые в целях привлечения внимания к конкретной фирме, они содержали те сведения, которые были способны сформировать в обществе, учитывая особенности его духовных и социальнопсихологических предпочтений, позитивный образ конкретного торгово-промышленного заведения.
Порицая барышничество, делячество, мироедство и постоянно утверждая, что "не о хлебе едином жив бывает человек", русское общество на протяжении всего XIX в. было поглощено поиском "положительно-прекрасного лица" в экономике. Наиболее рельефно эти искания представлены в художественной литературе. Являясь одной из форм выражения общественных настроений, она была буквально пронизана ожиданием хозяина. Н.В.Гоголь, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Д.Н.Мамин-Си-биряк, П.Н.Мельников-Печерский, М.Е.Салты-ков-Щедрин, П.Д.Боборыкин, А.П.Чехов, А.М.Горький, И.С.Шмелев пытались установить черты "личностного образца" русского хозяина, в котором соединились бы трудолюбие, воля, практичность, деловитость с приверженностью к традиционным устоями русской жизни. Отступление от последних в глазах общественности нейтрализовывало первую группу качеств (как бы широко они ни были представлены) и превращало персонаж в фигуру малопривлекательную, фактически приближенную к антигерою. Не случайно деловая рассудочность (Костанжогло у Гоголя, Адуев и Штольц у Гончарова), несмотря на стратегическую эффективность, в глазах российских мыслителей не считалась достойной имени Человека. Не таким, по их мнению, должен быть "русский хозяин".
Анализ художественных и публицистических произведений, показывает, что отечественные мыслители в "крепких хозяевах", лидерах в экономике видели людей, относящихся к особому типу личностей, обладающих твердым характером, выдающимся самообладанием, аскетизмом, развитым нравственным чувством и принципиально отличающихся как от представителей хищнического капитализма с их своекорыстием, так и от разгульных купеческих "сынков", проматывающих отцовские средства [3, С. 354]. В то же время, в этих натурах – "живителях местностей" – общество ценило не столько их личные достоинства, сколько ту социальную миссию, которую они выполняли, привлекая к своему делу тех, кто не был одарен "деятельностным" даром, в ком не было смелой предприимчивости, практических умений и сметки [12, С. 360 – 362].
Наиболее удачная аккумуляция общественного видения сущностных черт личности русского хозяина была осуществлена Боборыкиным в образе главного героя романа "Василий Теркин" (1892) – колоритной личности поволжского купца крестьянского происхождения Василия Ивановича Теркина. По замыслу автора, свои купецкие дела он вел по законам правды и ни под каким видом не пускался в "делеческие комбинации", стремясь не столько наполнить "кубышку", сколько послужить родине, решить задачи общенационального значения, в ряду которых главной считал ограждение Волги, ее водных и лесных ресурсов от разграбления дельцами-авантюристами, не ведающими ни о чем кроме барыша и готовыми погубить бездумными вырубками природные богатства "великой русской реки". Скупая лесные угодья в Поволжье, он планировал развернуть широкую природоохранную деятельность ("учредить "заказники", заняться… системой правильного лесонасаждения") и тем самым реализовать свою "миссию", выполнить свое главное призвание – быть человеком, который "блюдет свою совесть", живет по-божески и предан своему народу, делясь с ним "знанием, идеями, трудом, сердечной лаской" [1].
Идея общественного служения была одной из фундаментальных в представлениях российского общества об облике хозяйствующего человека. Она отчетливо прослеживалась уже в XVIII в., когда авторы разнообразных трактатов на экономические темы отмечали, что результатом любой хозяйственной деятельности должно быть не только личное обогащение, но и "общая польза" [17, С. 6]. Эти идеи не утратили актуальности вплоть до начала ХХ в. Не случайно представители российской общественности, размышляя о хозяйствующем человеке, отмечали, что не в экономике должен он утверждать "предельные ценности" своего существования, а прозревать их в сверхличностных задачах, связанных с идеей "святого долга перед Богом и Россией" [15, С. 233].
Подобного рода общественные суждения были в полной мере созвучны с жизненным выбором и поведенческой стратегией многих представителей делового мира дореволюционной России, особенно выходцев из крестьянства. Различные источники – воспоминания, семейные хроники, дневники и др. – свидетель- ствуют, что эта генерация людей самостоятельными хозяевами была благодаря наличию комплекса особых личностных качеств, в ряду которых наиболее значимыми считались следующие: энергичность, умение быстро оценить коммерческую обстановку, смелость в принятии деловых решений, склонность к интуитивным действиям (например, при подборе кадров), выдержка, хладнокровие, неприхотливость в личных потребностях, методичность и целенаправленность в действиях, а также трезвость, трудолюбие, следование "здравому смыслу", способность к точному и быстрому устному счету, честность, бережливость, личная воздержанность, религиозная настроенность [11, Т. 3, С.64; 18, С. 17, 37]. Отличаясь крепостью характера и православным мирови-дением, в своей хозяйственной деятельность они руководствовались несколькими фундаментальными принципами, которые в совокупности очерчивали контуры должной модели поведения хозяйствующего человека.
Во-первых, ориентация на производство, а не посредничество. Со слов самих представителей деловых кругов, стремление к "внутренней правде" подсказывало, что добросовестность и честность "очень трудно совместить с профессией базарного торговца" и что истинное дело, а именно то, которое способно оправдать и сделать достойным существование человека, может быть связано только с "созданием материальных средств" [18, С.5, 13, 35; 13, С. 149, 164; 14, С. 126].
Во-вторых, единение с действительностью на основе онтологической причастности человека природным и родовым началам, предполагающее встраивание в окружающую среду, а не переделывание ее. Природа, будучи кормилицей, играла определяющую роль в выборе форм и способов хозяйственной деятельности, а чувство Рода возлагало колоссальную ответственность по усвоению и передачи традиции поддержания связи времен и поколений. Ощущение родового начала, кроме переживаний родственной связи, включало и обостренное чувство Родины, воплощавшегося в идее "была бы жива Россия" и было бы сильным Государство как необходимое условие ее процветания [11, Т. 1, С. 50; 11. Т. 3, С. 157].
В-третьих, исключительная поглощенность Делом, постановка его на первое место в ряду жизненных задач. Так, например,
Н.П.Вишняков – один из владельцев московской золотоволочильной фабрики – сообщал, что его отец "любил труд, как все истинно деловые люди, не только ради необходимости и материальной выгоды, но и ради привычки к делу" [6, С. 71]. А В.А.Малинин, повествуя о жизни своего деда – основателя льнообрабатывающего производства в деревне Лукново Владимирской губернии, подчеркивал: "Я не помню у него иных интересов, кроме деловых", "Дело захватывало его, держало всю жизнь" и эту страсть он сумел передать молодым представителям рода, для которых высшее наслаждение было "не в сладких яствах и питиях, не в роскоши и покое, а в хозяйственном творчестве" [18, С. 19, 35]. На последний факт обращал внимание и М.Г.Пашенин, отмечая, что для "значительной части предпринимательской молодежи начала 20-го века Дело было не менее важной стороной жизни, чем дела сердечные, интимные, сексуальные", все свои усилия она направляла на развитие семейных промыслов и тем самым реализовывала ощущение своей причастности к природнородовому целому [11, Т. 2, С. 126, 139].
В-четвертых, стремление видеть в хозяйствовании, в Деле более широкие, выходящие за его непосредственные рамки, цели, а именно, связанные с идей служения обществу и Богу: чтобы "не единственно для себя, но отечеству… быть… способным", "чтобы нажитое от общества вернулось… к обществу (народу) в каких-то полезных учреждениях", чтобы в своей деятельности видеть не столько источник наживы, сколько "миссию, возложенную Богом" [2, С. 268; 5, С. 113]. Считалось, что любые дела, особенно в коммерческой сфере, если не освещены светом разума и не согреты сердечным теплом "могут надолго приковать человека к низинам материального прозябания", закрыв ему путь к "жизни по правде", которая, с православной точки зрения, составляла единственную абсолютную ценность. Только "служение общественному идеалу" было способно наполнить хозяйственную деятельность смыслом и сделать ее оправданной перед Богом и людьми.
Таким образом, как широкие круги общественности, так и практики-хозяйственники находились в состоянии поиска социально приемлемой для русского этноса модели поведения человека в экономике. Анализ их суждений показывает, что этически оправданным считалась только такая хозяйственная система, которой были чужды психология наживы и экономический индивидуализм с его центральным принципом подавления слабого. Общественным идеалом, говоря словами В.В.Зеньковского, было "праведное хозяйствование" [9, С. 228], в котором действовал человек, одновременно выступавший хозяином-управленцем и первым работником среди своих служащих, основным мотивом деятельности которого был труд во имя Бога и на благо общества. В хозяйствовании им виделось не что иное, как основная форма присутствия человека в мире, через которую он способен не только обеспечить материальное благосостояние для себя и своих близких, но и, с одной стороны, раскрыть жизненные смыслы, выходящие за пределы предметного бытия, а с другой – привнести одухотворение и нравственное содержание в окружающую его природносоциальную среду в целях ее облагораживания и возвышая. По их мнению, именно в этом состояла сущность и призвание хозяйствующего человека в России, а именно, того, кто именовался РУССКИМ ХОЗЯИНОМ.
Список литературы Социальный портрет и особенности мотивации деловой активности "русского хозяина" в трактовке отечественных мыслителей второй половины XIX - начала XX века
- Боборыкин П.Д. Василий Теркин//Боборыкин П.Д. Сочинения: в 3 т. -М.: Художественная литература, 1993. Т. 3.
- Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. -М.: Искусство, 1995.
- Булгаков С.Н. Народное хозяйство и религиозная личность//Булгаков С.Н. Избранные статьи: в 2 т. -М.: Наука, 1993. Т. 2.
- Булгаков С.Н. Философия хозяйства//Булгаков С.Н. Сочинения: в 2 т. -М.: Наука, 1993. Т. 1.
- Бурышкин П.А. Москва купеческая. -М.: Высшая школа, 1991.
- Вишняков Н.П. Сведения о купеческом роде Вишняковых: в 3 ч. -М.: Б.и., 1913. Ч.2.
- Герцен А.И. О развитии революционных идей в России//Герцен А.И. Сочинения: в 9 т. -М.: Художественная литература, 1956. Т. 3.
- Домострой. Русский семейный устав. -М.: Эксмо, 2005.
- Зеньковский В.В. Н.В.Гоголь//Русские мыслители и Европа/Сост. П.В. Алексеева. -М.: Республика, 1997.
- Найденова Л.П. Мир русского человека XVI -XVII вв. (по Домострою и памятникам права). -М.: Изд-во Московского Сретенского монастыря, 2003.
- Пашенин М.Г., Пашенин М.Г. Хроника жизни крестьянского рода Пашениных: в 3 т. -М.: Эпикон, 1997.
- Розанов В.В. Революционная обломовка//Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. -М.: Республика, 1992.
- Рябушинский В.П. Купечество московское//Старообрядчество и русское религиозное чувство. -М. -Иерусалим: Мосты, 1994.
- Рябушинский В.П. Судьбы русского хозяина//Старообрядчество и русское религиозное чувство. -М. -Иерусалим: Мосты, 1994.
- Савицкий П.Н. Хозяин и хозяйство//Савицкий П.Н. Континент Евразия. -М.: Аграф, 1997.
- Успенский Г.И. Больная совесть//Успенский Г.И. Сочинения: в 2 т. М.: Художественная литература, 1988. Т.1.
- Фомин А. Письмо к приятелю с приложением описания о купеческом звании вообще и о принадлежащих купцам навыках//Новые ежемесячные сочинения. 1788. Ч. XXIV.
- Хроника семьи Малининых из Лукново/повест. от лица Василия Алексеевича Малинина (Хранится в семейном архиве Пашениных. -О.С.).